 |
Рисунки Г. Калиновского
Глава 5
Сегодня я узнал еще одну деталь из жизни Янтарной планеты. Оказывается, У и его братья постоянно связаны некоей телепатической (а может быть, и нетелепатической) связью с... запасным мозгом. Да, да, именно так. Я видел своими глазами, то есть я хочу сказать глазами У, длинное, низкое здание со множеством ниш в стене, как в колумбарии. И в каждой нише — матово мерцающий кубик.
Если с У или с кем-нибудь из его братьев что-нибудь случится, запасной мозг всегда наготове, Берется новое тело, в него вставляется запасной мозг, который все время накапливал ту информацию, которой обладал погибший мозг, и погибший преспокойно продолжает жить и работать, а место в нише занимает новая запчасть. Изготовляются ли эти мозги или они как-то рождаются, металлические они или только кажутся такими — этого я еще не знаю.
Я жду каждой ночи с нетерпением. Мне пришло в голову, что я напрасно ничего не записываю. Хотя каждая, буквально каждая черточка, каждая деталь того, что я видел на Янтарной планете, врезается мне в память, лучше все-таки записывать виденное.
Не откладывая свой замысел в долгий ящик, я тут же положил перед собой лист бумаги, взял ручку, написал слова “Янтарная планета” и оцепенел.
В голове моей в первозданной своей яркости и четкости проплывали плавные, округлые холмы и звучала их мелодия, но слов, чтобы рассказать о них, у меня не было. Был лишь чистый лист бумаги, и чем больше я на него смотрел, тем больше убеждался, что никогда ни за что не смогу покрыть его странными маленькими загогулинками, которые называются буквами и которые теоретически могут рождать самые необыкновенные, тонкие, изысканные, трепещущие слова, способные описать все на свете. Нет, для этого нужно было обладать каким-то волшебством, знать заветное петушиное слово, а у меня была лишь грусть, смешанная с каким-то облегчением. “Наверное, потому, — подумал я, — что мне в глубине души не хотелось записывать на бумаге свое знакомство с народцем У — я боялся, что перенесенные на бумагу чары исчезнут, нить порвется, и я потеряю Янтарную планету”.
— Антошин, — сказал я и посмотрел на последнюю парту, где сидел Сергей, — ты готов сегодня отвечать?
— Yes, — сказал Антошин, и все тридцать шесть голов в классе, мальчишечьи и девичьи, светлые, темные и шатенистые, причесанные и лохматые, разом повернулись к Сергею. Впервые в письменной истории класса он выказал по доброй воле готовность отвечать, причем сказал это по-английски, пусть одним словом, но по-английски. Должно быть, он и сам понимал необычность этого момента, потому что явно покраснел и насупился, отчего стал сразу интереснее.
Класс замер, все хотели быть свидетелями чуда, чтобы потом рассказывать о нем своим детям и внукам. Как же, как сейчас помню, это было в тот год, когда Сергей Антошин сказал на уроке “Yes”.
Антошин ответил на “тройку”. Но я поставил в журнал с чистой совестью четверку. Подошел и молча пожал ему руку. Если бы я что-нибудь при этом сказал, все пошло бы прахом. Но я молча пожал ему руку, и впервые на лице Сергея вместо брезгливой сонливости сияла тихая гордость.
Черт возьми, как легко отмыкаются ребячьи души и как трудно найти ключик, который бы к ним подходил! Два года я не знал, что делать с Сергеем. Два года.
В перерыве телефон в учительской каким-то чудом оказался свободным, и я, веря в то, что такой день должен быть удачным во всех отношениях, позвонил Илье.
— А я как раз тебе собирался звонить, но никак не мог вспомнить, в какой школе ты терроризируешь детей неправильными английскими глаголами. Бери карандаш и записывай.
— Что, глаголы?
— Запиши телефон и адрес. — Он продиктовал мне: — Нина Сергеевна. Кандидат медицинских наук Нина Сергеевна Кербель. Записал? Ни пуха, ни пера.
— Подожди, что такое Нина Сергеевна Кербель? Что она делает?
— Она изучает сон и сновидения. Привет от Арины Родионовны. Не обессудьте, батюшка, ежели что не так.
Он засмеялся и положил трубку.
Ну что ж, Нина Сергеевна так Нина Сергеевна.
Когда я позвонил ей, она долго молчала, вздыхала в трубку, чем-то шелестела и вдруг спросила:
— А сегодня вы приехать не можете?
Я сказал, что могу. Она снова молчала, дышала в трубку, и я подумал, что если и научные проблемы она решает с такой же скоростью, тайны сна и сновидений еще долго будут волновать человечество. Наконец она решилась и попросила меня приехать к пяти часам.
Оказалась Нина Сергеевна красивой, молодой женщиной с огромными серыми глазами.
— Да, да, — сказала она, пожимая мне руку, — мне звонил наш директор. Сам. Вы хорошо знаете Валерия Николаевича?
Я неопределенно пожал плечами. Жест должен был обозначать — так себе. Конечно, это было легкое преувеличение, поскольку я первый раз слышал его имя, но мне не хотелось огорчать Нину Сергеевну. Не знаю почему, но я вдруг посмотрел на ее пальцы. Мне было приятно, что обручального кольца я не увидел.
— Валерий Николаевич мне сказал, что вы журналист...
— Вообще-то... Но я к вам вовсе не по журналистскому делу...
Ай да ловкач Илюша! Журналист...
Нина Сергеевна вопросительно посмотрела на меня.
— А я поняла, что вы журналист. Гм... Ну, раз вы здесь, слушаю вас.
Это был самый трудный момент. Порог, за который так легко зацепиться ногой и шлепнуться лицом вниз. А мне совсем не хотелось падать перед этой стройной женщиной в белом, ловко сидящем на ней халате. Интересно, есть под ним платье или нет? Какая чушь! Но в голову мне лезли самые нелепые вопросы, лишь бы оттянуть страшный миг. Мне захотелось спросить, трудно ли изучать сон и сновидения, как она относится к теории Фрейда, почему халат на ней сидит как влитой, без единой складочки, а на других висит вялыми, жеваными хламидами, наконец, что ей снится самой.
Но отступать было поздно. Нина Сергеевна терпеливо смотрела на меня, и я увидел, как в ее огромных серых глазищах начинает тлеть недоумение.
Я зажмурился и прыгнул в холодную, страшную воду.
— Нина Сергеевна, то, что я собираюсь вам рассказать, будет звучать совершенно фантастически. Я это знаю и отдаю себе в этом отчет. И я не обижусь, если в любой момент вы скажете: простите, я занята, у меня много работы. Я вздохну, извинюсь и уйду, унося... и так далее.
Нина Сергеевна слабо улыбнулась и сказала:
— Я действительно занята, но после такого вступления я просто должна выслушать вас.
— Спасибо, — сказал я.
Весь мой ужас испарился, и я смело посмотрел н. специалистку по сну. Она снова еле заметно улыбнулась и принялась рассматривать свои пальцы. Пальцы были тонкие и длинные.
Я начал рассказывать. Я был краток и, как мне казалось, убедителен. Я рассказал о сновидениях, о посещении психиатра. Она оторвалась от своих пальцев, Лицо ее ничего не выражало.
— Ну, а что мы можем для вас сделать?
— Мне сказали, что вы занимаетесь сном.
— Понимаете, никто в мире никакими приборами не может зарегистрировать, что именно снится человеку. Мы можем определить момент, когда человек начинает видеть сны, но что он видит — мы не знаем. Это может быть сон о вашей планете, а может быть сон самый обычный и земной. Физиологически они одинаковы.
Должно быть, на лице моем было написано такое разочарование, что она добавила:
— Поверьте, мы бы с удовольствием помогла вам, но я просто не знаю...
В ее глазах не было ни насмешки, ни брезгливого равнодушия. И за это я уже был ей благодарен.
— Простите, Нина Сергеевна, я отнял у вас столько времени.
Я протянул ей руку и на долю секунды задержал ее ладонь в своей. Она внимательно посмотрела на меня, и по лицу ее снова скользнула слабая улыбка.
— До свидания, — сказала она.
Я подумал, выходя, что был бы рад, если бы ее слова оказались вещими. До свидания, Нина Сергеевна.
День был холодный. Снег еще не лег, и голый асфальт стыл на морозе, и от вида его серой наготы было особенно зябко.
Мне должно было быть грустно. И оттого, что лаборатория сна помочь мне ничем не могла, и оттого, что у Нины Сергеевны такие прекрасные глаза, и оттого, что на пальце у нее нет обручального кольца, а у меня есть, и оттого, что свинцовое небе неохотно цедило скупой зимний свет. Но мне не было грустно. Мой друг с Янтарной планеты не только тянул ко мне зыбкие паутины сновидения. Он посылал мне бодрость и веру, и я почувствовал, что начинаю любить далекий и неведомый народ, такой не похожий на нас и такой похожий.
 Это
случилось утром. Когда я шел в школу. Я подходил к
аптеке и увидел метрах в ста Вечного Встречного.
Он сегодня опаздывал немножко. Я подумал, что
улыбаться ему еще рано, — все равно не видит на
таком расстоянии. И вдруг почувствовал в голове...
как бы это назвать... Ну, легкую щекотку, что ли.
Мгновенный зуд, но вовсе не неприятный, Не на
коже, не в корнях волос, а где-то внутри, в мозгу.
Тут же этот зуд перешел в неясное бормотание. Я по
инерции продолжал идти навстречу Вечному
Встречному, и с каждым нашим шагом, сокращавшим
расстояние между нами, бормотание становилось
громче, чище, явственнее, словно голова моя была
приемником, и кто-то подкручивал ручку настройки.
Когда Вечный Встречный был уже в нескольких
метрах от меня, и мы улыбались друг другу, я
услышал четкие слова: “Какой симпатичный
молодой человек!”
Это
случилось утром. Когда я шел в школу. Я подходил к
аптеке и увидел метрах в ста Вечного Встречного.
Он сегодня опаздывал немножко. Я подумал, что
улыбаться ему еще рано, — все равно не видит на
таком расстоянии. И вдруг почувствовал в голове...
как бы это назвать... Ну, легкую щекотку, что ли.
Мгновенный зуд, но вовсе не неприятный, Не на
коже, не в корнях волос, а где-то внутри, в мозгу.
Тут же этот зуд перешел в неясное бормотание. Я по
инерции продолжал идти навстречу Вечному
Встречному, и с каждым нашим шагом, сокращавшим
расстояние между нами, бормотание становилось
громче, чище, явственнее, словно голова моя была
приемником, и кто-то подкручивал ручку настройки.
Когда Вечный Встречный был уже в нескольких
метрах от меня, и мы улыбались друг другу, я
услышал четкие слова: “Какой симпатичный
молодой человек!”
До самых последних часов своей жизни я буду помнить эти слова!
Я не могу описать вам голос, который я услышал. Это был явно не голос Вечного Встречного. Голос был как бы бесплотный, мой внутренний голос, без тембра, звука, без окраски, но он четко произнес слова “Какой симпатичный молодой человек!”, и я слышал ясно эти слова.
С невообразимой скоростью у меня перед глазами замелькали термины учебника психиатрии. Вербальные иллюзии, слуховые галлюцинации, псевдогаллюцинации...
На мгновение мне стало страшно. В груди образовалась пустота, властно всосала в себя желудок, сердце пропустило такт. “Значит, я все-таки схожу с ума”, — подумал я и понял тут же, что это неправда. Нет, это неправда. Мне уже не было страшно. Мною овладело детское ощущение, что происходит что-то интересное. Что из фотоаппарата вдруг действительно вылетела птичка и сказала “здрасьте”.
Я обернулся. Вечный Встречный был уже метрах в ста позади меня. Я помчался за ним, размахивая портфелем, в котором лежал проверенный накануне диктант. Из сорока одной работы семь двоек. Не блестяще, прямо скажем.
— Простите, — сказал я, запыхавшись, и Вечный Встречный посмотрел на меня с недоумевающей улыбкой, — что вы подумали только что, проходя мимо меня? Это очень важно. Поверьте мне, это...
Вечный Встречный весело рассмеялся.
— Что я подумал? Я подумал, какой симпатичный молодой человек. И, ей-богу, это не комплимент, я в этом действительно уверен.
Я быстро обнял своего незнакомого знакомца, чмокнул его в тугую сизую щеку и помчался в школу. Теперь я услышал слова “странный мальчик”. Сначала они прозвучали чисто и сильно, а затем, через несколько шагов, слились в неясное бормотание и погасли.
“Странный мальчик”. По крайней мере один-то человек уже точно знает, что я рехнулся.
А мне было весело. Меня захлестывало радостное ожидание, детское предвкушение праздника. Птичка ярмарочного фотографа вилась вокруг моей головы, обещая удивительные события и необыкновенные встречи. Мне казалось, что внизу, подо мной, в шумной гавани, покачивается на зеленых волнах мой галеон, который вот-вот отправится в неведомые страны. А может быть, это вовсе не гавань и не галеон, а космодром и ракета. И я иду один по бескрайнему полю к серебристой игле, нацеленной в зенит.
Я посмотрел на часы. Двадцать восемь минут девятого. Сигарету выкурить я, конечно, не успею, но можно не торопиться. Однако я не мог идти спокойно. Забыв о педагогической солидности, я галопом влетел по лестнице, ворвался в учительскую и почти пропел “Доброе утро”.
Семен Александрович испуганно посмотрел на меня и поднял журнал, словно хотел загородиться этим педагогическим щитом, и я явственно услышал: “Уж не пьян ли он?”
— Нет, нет, — покачал я головой и увидел, как в выцветших бледно-голубых глазах математика, увеличенное стеклами очков, медленно поднималось облачко изумления.
Я схватил журнал и помчался в восьмой “А” раздавать диктант с семью двойками.
Вечером я решил проделать серию экспериментов. Солидных, корректных, как говорят ученые мужи, экспериментов.
— Люш, — сказал я жене, — ты можешь произнести про себя какую-нибудь фразу и записать ее на листке бумаги?
— А для чего?
— Для эксперимента.
— Фокус, что ли?
— Я ж тебе говорю: эксперимент. Только, пожалуйста, что-нибудь пооригинальнее. А то напишешь “Юрка-дурак”, и мне будет неинтересно угадывать.
— Зато это будет правда.
— Люшенька, жена моя, спутница жизни, правда правдой, а эксперимент экспериментом. Ты же женщина. Ты должна быть любопытна и недоверчива, как сорока. Не слезай с тахты. Вот тебе карандаш, вот листок бумаги. Когда будешь писать — прикрой листок рукой, чтобы я ненароком не подсмотрел.
— Дай что-нибудь подложить под лист.
Я протянул ей номер “Науки и жизни”. Теперь сосредоточиться, Я уже установил, что бесплотный голос в моем мозгу звучит чище и громче, когда я сосредоточиваюсь, прислушиваюсь к нему. И наоборот, когда я занят чем-нибудь, голос исчезает.
Быстрый, летучий зуд, приятная щекотка. Ощущение включенного приемника. Он включен, но передача еще не началась. И вот голос: “Что б написать... Что ему надо отдохнуть? Просто очень. Он просил пооригинальнее. Какую-нибудь стихотворную строчку... “Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь...”
Я не удержался. Я хотел написать услышанное тоже на листке бумаги и сравнить потом. Вместо этого я пропел:
“Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь...”
Галя уставилась на меня, слегка приоткрыв рот, и я услышал, как она подумала: “Как это он?.. Фокус какой-нибудь...”
— Угадал? — спросил я.
— Да-а, — словно не веря себе, протянула Галя. — А как ты это делаешь?
— Очень просто, — небрежно и слегка покровительственно объяснил я. — Я смотрю на тебя и слышу твои мысли. В этот момент, например, никаких ясных мыслей у тебя нет. Но давай-ка поставим еще один опыт.
“Что бы такое придумать, чтоб он не догадался... Какие-нибудь имена... Знакомых... Нет, знакомых он может угадать... Чушь какая, как он может... О, есть! Напишу фамилии сотрудников соседней лаборатории. Зав — Сидорчук, потом этот симпатичный молодой доктор Леонтьев, Малыкина, Ишанова... Как фамилия этого хромого? Ш-ш... А, Шулятицкий. Кто еще? Полищук и Нина Сыч, которые никак не поженятся... Хватит, пожалуй”.
— Хватит, — кивнул я, и Галя нерешительно посмотрела на меня.
У меня было такое впечатление, что она еще не решила; то ли удивляться, то ли восхищаться, то ли обругать меня. А для такой решительной особы, как Галя, неопределенность — состояние противоестественное.
— Записала? — спросил я.
— Да.
— Читаю, — сказал я, — А ты следи по своему списку, не пропустил ли я кого-нибудь - Сидорчук. Дальше у меня записано с.м.д. Леонтьев, Если я правильно помню, гражданка Чернова, с.м.д. — это симпатичный молодой доктор. — Я вздохнул, изображая отчаянную ревность, — Малыкина, Ишанова.
— Ешанова, — поправила Галя.
— Хорошо. Я великодушен. Я разрешаю этой даме быть отныне не Ишановой, а Ешановой.
— Она не дама. Она девушка.
— Передай ей мои поздравления. Продолжаю. Шулятицкий, Полищук и Нина Сыч. Правильно?
— Правильно. Здорово ты это делаешь. Будем ужинать?
— Ужинать? — переспросил я.
— Не завтракать же.
Боже, она только что была свидетелем чуда! Самого настоящего чуда. Маленького настоящего волшебства. И зовет ужинать. Вместо того, чтобы упасть на колени и обратить ко мне простертые длани, она зовет меня. ужинать. У-жи-нать. Слово-то какое нелепое — у-жи-нать. И этот человек, с которым я живу под одной крышей, работает еще в научно-исследовательском институте. Исследовательском. Научном. А она зовет меня ужинать.
Она вся была в этом. Все, что она не могла контролировать, все, что не могла держать в своих маленьких, цепких папках, она отбрасывала прочь, Ей не нужно было чуда, потому что для созерцания чуда нужна смиренность, а смиренностью моя жена не отличается.
— Галя, — сказал я. — Ты младший научный сотрудник. У тебя готова треть диссертации. Ты знаешь про пищеварение плоских червей больше всех на свете. Ты начинающий ученый. И ты так спокойно отнеслась к тому, что я тебе показал? Как это может быть?
— А что я должна была делать? — Галя сползла с тахты, потянулась, выгнувшись по-кошачьи, — Что сегодня по телевизору, ты не знаешь?
— Люшенька, — жалобно простонал я, — Как я это делал? Объясни мне.
— Откуда я знаю, ну, что ты хочешь от меня? Фокус какой-нибудь...
— Какой фокус? — загремел я. — Ну, какой это фокус?
— А что это? — необычайно вежливо спросила Галя,
— Это чтение мыслей, вот что это.
— Чтение мыслей, материализация духов и раздача слонов.
— Боже мой, какая эрудиция! Ты даже читала Ильфа и Петрова. Ну, хорошо, а если бы я сейчас взлетел в воздух и вылетел в окно?
— Я бы поплакала полгода и вышла, наверное, за другого.
— Спасибо, Люш, за полгода. На самом деле тебе, наверное, хватило бы для слез и полмесяца или полдня. Но я имел в виду благополучный полет. Предположим, я бы полетал и сел на подоконник. И ты бы тоже спросила меня, что сегодня по телевизору?
“С ним все-таки что-то происходит, — услышал я ее мысли. — Попросить Валентину, чтобы она еще раз поговорила с этим врачом...”
— Попроси, попроси! — крикнул я и подумал, что кричать вообще-то глупо и я, наверное, на ее месте вел бы себя так же.
— Что попроси? — Теперь, в первый раз за вечер из Галиных глаз исчез домашний ленивый покой.
— Попроси Валентину, чтобы она еще раз поговорила с этим врачом! — Я знал, что зря распаляюсь, но уже ничего не мог поделать с собой. — Ты абсолютно права. Как только встретишь что-то непонятное, не укладывающееся в принятые схемы, давай к психиатру! Последняя линия окопов! Если бы я утверждал, что у тебя на голове рожки, ты бы могла подумать, что у меня галлюцинации. Но ведь это не галлюцинации. Сравни две бумажки. Сидорчук, Леонтьев, Малыкина, Ешанова или Ишанова, как там ее... Или это тоже галлюцинация? Семейная галлюцинация? Ладно, когда я пытался рассказать тебе о своих снах, и ты оставалась вежливо-равнодушной, я еще мог тебя понять. Какая-то планета, какой-то человечек У с запасным мозгом — мало ли что кому снится! Но сегодня... Объясни мне... Это же... Это же чудо! Это телепатия, которой не существует! А ты говоришь— ужинать!
Галя подошла ко мне и обняла меня. Знакомое теплое прикосновение. Слабый знакомый запах ее духов. Знакомая комната. Чуть криво висящий эстамп с букетом сирени. Сколько раз я собирался поправить его.
— Ну что ты, Юрча, — нежно сказала Галя и потерлась кончиком носа о мою щеку. Кончик был мягкий и теплый, и я, несмотря на раздражение, почувствовал прилив нежности к этому существу, которое я безжалостно волок за собой из ее привычного теплого мирка к далекой Янтарной планете. — Не нервничай, хорошо? — сказала она. — Наверное, ты прав. Наверное, я дурочка. Но что же делать, если господь обидел меня разумом? Но ведь ты тоже глупенький. Как ребеночек. Как по-твоему, что я сейчас думаю?
— Все-таки я его люблю!
— Правильно, — засмеялась Галя. Это уже было нечто более понятное, чем можно было привычно распоряжаться. Можно было снова почувствовать себя хозяйкой.
Я не сердился на нее. Одни жаждут чуда, другие бегут от него. Мне было только чуть-чуть стыдно за нее. Перед У, И чувство это не было для меня смешным.
Галя ушла на кухню, а я подумал, что лучше всего, наверное, было бы забыть о Янтарной планете и начать выступать с так называемыми психологическими опытами. А сейчас феномен природы, заслуженный артист республики, продемонстрирует опыты чтения мыслей, основанные на учении Ивана Петровича Павлова... А я в сатанинском черном фраке, с бледным лицом и горящими глазами выхожу на эстраду, небрежно раскланиваюсь, замечаю во втором ряду сказочной красоты блондинку, подхожу к ней и пристально смотрю на нее.
Бедняжка дрожит и не может оторвать от меня завороженного взгляда.
Я прошу ее написать на бумажке два предложения и передать в жюри, а сам, отвернувшись, называю их. Зал гремит овациями, блондинка уже не дрожит, а вибрирует, а я продолжаю психологические опыты, основанные на учении Ивана Петровича Павлова.
Я улыбнулся. Нет, я не предам своего друга У и его дар ни за какие деньги, эстраду и завороженный взгляд блондинки. Не я хозяин дара, и не для заработка протянули мне братья У серебряную ниточку сквозь бесконечные просторы космоса.
Вдруг удивительно громко и неожиданно зазвонил телефон. Галя взяла трубку.
— Привет, Илюшенька... Да, дома, даю трубку. Я взял трубку.
— Ты можешь ко мне приехать? Прямо сейчас? — выпалил одним духом Илья.
— Что-нибудь случилось? — спросил я.
— О имбецил! Стараешься для него, ломаешь голову, а он спрашивает, не случилось ли что-нибудь.
— Хорошо, Илюша, сейчас приеду.
Глава 6
Илья, наверное, высматривал меня в окно, потому что не успел я захлопнуть дверцу лифта, как он тут же распахнул дверь своей квартиры. Он схватил меня за руку и втащил на кухню, где зло шипел на плите чайник.
— Прости меня, Юрочка, но я действительно не ошибался, считая тебя олигофреном.
— Спасибо.
— И себя тоже. Вчера и сегодня я измучил всех, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к кибернетике.
— К кибернетике?
— Вот-вот. Именно здесь и проявляется твое клиническое слабоумие. Что такое твои сновидения, если ты не разыгрываешь нас? Это сигналы, несущие какую-то информацию. Так?
— Очевидно.
— Очевидно! Я думаю, очевидно. Всем измученным в нашем институте я задавал один и тот же вопрос: если, скажем, одна цивилизация пытается передавать в первый раз информацию другой цивилизации, как она может привлечь внимание к своим сигналам? И все кибернетики в один голос отвечали: чтобы привлечь внимание к своим сигналам, они должны подчеркнуть их искусственный характер.
— А как?
— Вот именно, а как? И все ответили одно и то же; варьируя сами сигналы или интервалы между ними. Скажем, если сигналы поступают с интервалами в две, четыре, шесть и так далее единиц времени, можно быть абсолютно уверенным, что интервалы эти не носят случайного характера. Или интервалы меняются в геометрической прогрессии: два, четыре, восемь, шестнадцать... То же самое можно сказать о длительности или силе самих сигналов. Ты меня понимаешь?
— Как будто.
— А раз так, то мы можем сделать вывод. Твои людишки, безусловно, носители разума. Они должны понимать, что те, кто принимает их сигналы, захотят их проверить...
— Но их сигналы ведь не нужно расшифровывать. Это ж не какие-нибудь там точки и тире или кривые. Это кинофильм. Многосерийный учебный кинофильм.
— Да, но... — Илья задумался, но тут же встрепенулся. — Они должны понимать, что само содержание сновидений зафиксировать нельзя.
— Почему они обязательно должны так думать? Я не знаю, спят ли они вообще, видят ли сны. Этого я, повторяю, не знаю. Но я же тебе объяснял, что они не знают, что такое мои мысли и чужие мысли. Их мысли свободно циркулируют между всеми братьями У. И для них поэтому необходимость доказать кому-то, что я думал то-то и то-то, а не то-то и то-то, абсурдна. Ты понимаешь, они не могут знать, что такое ложь и потому не могут знать, что такое проверка.
— Да, ты, наверное, прав, — как-то сник Илья. — Хотя попробовать все-таки стоит.
— А что именно?
— То, о чем говорили кибернетики. Частоту сигналов.
— Но сон...
— Сновидение — это и есть сигнал. Ты ж говорил мне, что в лаборатории сна умеют объективно фиксировать начало сновидений.
— Да, так мне сказали. Но что такое сон? Заснул...
— В отличие от тебя я предприимчив и любознателен. Я сегодня прочел пять книжечек о сне. Сон, дорогой мой слабоумный друг, дело не простое. Там есть свои фазы и так далее. Пойди в лабораторию, упади в профессорские ноги...
— Там изумительные ножки...
— Профессорские?
— Почти. И глаза. Серые. Потрясающей формы. И узкие ладони. Ее зовут Нина Сергеевна.
— Да, это тебе не Янтарная планета. Здесь ты сразу становишься красноречив. С ней ты, я надеюсь, договоришься о сне.
— Не говори пошлостей.
— Боже мой, какое воспитание, какие манеры! Пардон, мсье. Я забылся. Икскюз ми, сэр...
Илья что-то еще продолжал бормотать, а я вдруг вспомнил, что забыл сказать ему о телепатии. Это было невероятно. Как я мог забыть?
— Илюшенька, — сказал я, — а ты знаешь, мне кажется, что они дают нам еще одно подтверждение своего существования.
— Какое?
— Они каким-то образом наделили меня способностью улавливать чужие мысли.
Илья встал и выключил газ под плевавшимся паром и негодующе клокотавшим чайником.
— Неостроумно.
— Я не пытаюсь острить. Подумай о чем-нибудь. Отвернись от меня на всякий случай. Ну, думай же, думай, если умеешь.
"Разыгрывает или нет?..”
— Да нет, Илюша, не разыгрываю. Думай всерьез. Назови про себя хотя бы какие-нибудь цифры. “Семь... сто три... пятнадцать...”
— Семь, — сказал я, — сто три, пятнадцать...
Илья повернулся ко мне, снял очки, подышал на стекла, потом долго и тщательно протирал их полой пиджака. Мне стало жаль его.
— Давай еще. Я думаю, — пробормотал он.
— По улицам ходила большая крокодила.
— Еще, — сказал Илья.
— Гутта кават ляпидом нон ви... Если я не забыл, это значит по-латыни — капля точит камень не силой.
— Еще, — жестко сказал Илья. — Только не повторяй вслух, а запиши на листке бумаги. И я запишу. Давай.
Я написал: “Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда”. Он взял листок и мучительно долго читал то, что я написал. Потом то, что написал он. Потом положил рядом оба листка.
— Юрочка, как же так? Ты можешь ущипнуть меня, ударить, укусить, порезать, но не очень сильно? Как же так? Этого же не может быть, Понимаешь? Не может быть. Нет ни одного случая четко зафиксированной передачи мыслей на расстоянии. Ты это понимаешь?
— Я это понимаешь.
— Так что же ты стоишь? О боже, почему мой друг так дементен? Это же... это же... это событие, значение которого не укладывается в сознании. Нет, Юрка, это все правда? Если я не сплю, в честь такого события я клянусь убрать квартиру, покрыть полы польским лаком и выучить наизусть календарь, Что я сейчас подумал?
— Что я стою, как вол, начисто лишенный фантазии.
— С ума сойти. Я уж даже не знаю, как отметить... По рюмочке?
— Нет, мой друг, — важно ответил я. — В отличие от некоторых, я не могу относиться к своей голове безответственно. А вдруг алкоголь разрушает способность к телепатии?
— Ладно, бог с тобой. Я вот сейчас подумал... Хотя зачем мне тебе говорить, раз ты и так читаешь мои мысли...
— Разговаривать все-таки привычнее.
— Знаешь, Юраня, пока ты особенно не распространяйся о чтении мыслей.
— Почему?
— Это все слишком серьезно. Не надо делать из этого цирк. Галя знает?
— Да.
— А кто еще?
— Никто.
— Возьми с нее слово, что она никому не скажет. Обещаешь?
— Да.
— А я тоже подумаю, что нам делать дальше.
Педагог есть педагог. Я просто не мог отказать себе в маленьком удовольствии. К тому же я, если говорить откровенно, все-таки тщеславен.
— Так, подумаем, кого бы сейчас вызвать, — сказал я и встал из-за стола.
Седьмой “А” затаил дыхание. Я медленно пошел между партами, заложив руки за спину.
“Не спросит, прошлый раз вызывал”, — юркнула мысль Коли Сафонова.
— Ты в этом уверен?
— В чем, Юрий Михайлович? — вскочил ста восьми десятисантиметровый акселерат.
— В том, что не спрошу тебя, поскольку прошлый раз вызывал?
Сафонов несмело улыбнулся.
— Ну что ж, уверенность — прекрасная вещь, Раз ты уверен — не спрошу. Садись, мой юный друг.
Сафонов сел, недоуменно моргая прекрасными пушистыми ресницами.
“А я не выучила”, — испуганно подумала Аня Засыпко, маленькая, чистенькая, беленькая девочка, у которой была самая длинная и толстая коса в классе, а может быть, и в мире.
— Печально, Анечка, печально, — сказал я и посмотрел на нее.
Класс встрепенулся. В мире нет более отзывчивой аудитории, чем школьный класс. Бездельники почувствовали, что на их глазах происходит что-то интересное, и на всех лицах, кроме беленького личика Ани Засыпко, был написан живейший интерес.
Аня стояла молча, маленькая, чистенькая, беленькая девочка с длинной толстой косой.
— Ты ведь не выучила на сегодня? — играл я с ученической мышкой эдаким учительским котом.
Аня еще больше потупилась и густо покраснела, отчего сразу стала похожа на дымковскую игрушку.
— Садись, Аня. Я твердо знаю, что ты не готова, я это знал с той минуты, когда только вошел в класс, но не буду тебя спрашивать. Я не садист, я не получаю удовольствия от двоек и записей в дневнике. Вот Сафонов только сейчас подумал:
“Как это он узнал?” Верно, мой юный друг?
Сафонов сделал судорожное глотательное движение и так выразительно кивнул, что класс дружно рассмеялся.
— Вы видите, милые детки, сколь тщетны ваши попытки ускользнуть из моих сетей. Видите?
Класс печально кивнул. Я их понимал. Плохо, когда ты в сети. Я посмотрел на Антошина. Мне показалось, что в глазах у него тлеет заговорщицкий огонек. Я подошел к нему. “Хоть бы меня спросил”, — подумал Антошин. Даю вам слово, я чуть не расцеловал его от благодарности.
— У меня такое впечатление, что Сергей Антошин не прочь бы ответить. Так, Сергей?
— Я учил, Юрий Михайлович. — Антошин встал. Он действительно выучил, мой милый Антошин. Он отвечал на четыре, но я с наслаждением поставил ему пять. В журнале и в дневнике.
Нина Сергеевна Кербель встретила меня у входа в лабораторию.
— Я не думала, что вы так быстро приедете.
— Вы назначили мне аудиенцию в четыре, а сейчас ровно четыре.
— Неужели уже четыре? Пройдемте сюда, вот в эту комнатку. Пока заведующего нет, я здесь обосновалась.
Нина Сергеевна села за стол, закрыла глаза и помассировала себе веки. На носу были заметны крошечные вмятинки от очков. Я молчал и смотрел на нее. Она, должно быть, совсем забыла обо мне. Наконец, она встрепенулась, открыла глаза и виновато улыбнулась.
— Простите, я что-то устала сегодня...
— А тут еще я...
— Слушаю вас. — Она, должно быть, не хотела, чтобы я услышал ее вздох, но я услышал его.
— Нина Сергеевна, подумайте о чем-нибудь.
Она подняла свои прекрасные серые глаза и посмотрела на меня.
— В каком смысле?
— В буквальном. О чем угодно. Произнесите про себя какую-нибудь фразу.
— Для чего?
— Нина Сергеевна, будьте иногда покорной женщиной, подчиняющей свою волю мужской.
— Вы думаете, я никогда этого не делала? — Она улыбнулась своей слабой, неуловимой улыбкой. — Ну, хорошо. Задумала.
— Простите меня, но это банально. Вы подумали: что он от меня хочет?
Нина Сергеевна чуть-чуть покраснела.
— Еще раз. Что-нибудь более специальное, чтобы свести к минимуму случайное совпадение. Ага, вот это лучше. Вы произнесли про себя фразу: “Быстрый сон был открыт в 1953 году Юджином Азеринским из Чикаго”. Угадал?
— Как вы это делаете?
— Не знаю. Я думаю, что это как-то связано с моими сновидениями.
— И когда вы впервые обнаружили в себе такую способность? — Манеры Нины Сергеевны сразу стали напористыми, энергичными. Передо мной был уже исследователь.
— Вчера.
— И вы действительно слышите мои мысли?
— Когда нахожусь достаточно близко и концентрирую внимание. Нина Сергеевна, я ведь пришел к вам не для того, чтобы продемонстрировать свои телепатические способности...
— О чем вы говорите, я вас не отпущу. Вы даже не представляете себе, как это интересно...
— И тем не менее не это главное. Вы давеча говорили мне, что умеете фиксировать своими приборами начало и конец сновидений.
— Совершенно верно. Помните, я только что задумывала фразу, которую вы услышали... о быстром сне? Так вот, как раз быстрый сон — иногда его называют парадоксальный сон, РЕМ-сон или ромбэнцефалический сон — видите сколько названий... Этот сон и есть сон, во время которого мы видим сновидения.
— И вы можете фиксировать этот сон?
— О да, несколькими способами.
— Хорошо, Нина Сергеевна. Представьте себе на секундочку, что я не сумасшедший...
— Я...
— Я понимаю. Не надо извинений. Представьте себе на секундочку, что мои рассказы о Янтарной планете истинны. Истинны в том смысле, что такая планета существует в реальности, а не в моем воображении. И что мои сны — это информация, которую чужая цивилизация посылает нам. Я повторяю, допустим. Так вот, кибернетики говорят, что при передаче сигналов любая цивилизация постарается сделать так, чтобы эти сигналы можно было легко выделить, чтобы виден был их искусственный характер.
— Вы хотите сказать...
— Совершенно верно. Если считать сны сигналами, может случиться, что периодичность их или интервалы между ними будут подчиняться какой-то явной зависимости. Вы меня понимаете?
— Вполне...
— Я прошу вас об эксперименте, как о личном одолжении. Если все это окажется чистой фантазией, мы просто забудем об этом. А если нет...
— А если нет?
— Тогда подумаем.
— А мне бы хотелось посмотреть на вашу энцефалограмму во время чтения мыслей. Это может быть интересно. Во всяком случае, таких работ никто, по-моему, не делал. Хотя бы потому, что телепатии, как известно, не существует.
— Ну и прекрасно. Вы кандидат?
— Да.
— Вы станете доктором. Потом заведующей лабораторией. Потом вас выберут членом-корреспондентом. Вы будете самым красивым членкорром. И все будут говорить: а, эта та, интересная, открывшая телепатию... Подумаешь, повезло просто. Попади этот Чернов ко мне в руки, я бы уж академиком стал... Все равно она интересная дама...
— Ну, раз вы гарантируете мне членкорра, я поговорю с шефом, он как раз завтра выходит после отпуска.
— А он...
— Попробую уговорить.
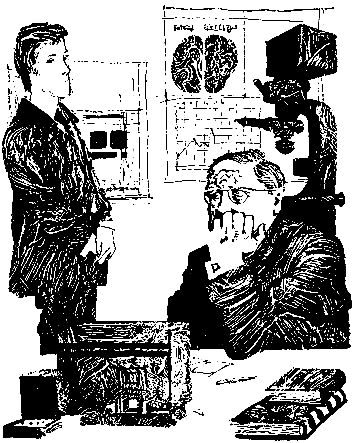 Глава 7
Глава 7
Нина Сергеевна шефа не уговорила, но попросила меня приехать и попробовать самому поговорить с ним.
Шеф, Борис Константинович Данилин, оказался невысоким, коренастым человеком лет шестидесяти, с лицом бывшего боксера и настороженными глазами участкового уполномоченного. Он был настолько выутюжен и накрахмален, что даже при малейшем движении издавал легкий жестяной шорох. Я представился и попросил прощения за вторжение.
—Да, да, — неохотно сказал заведующий лабораторией, — Нина Сергеевна мне говорила о вас. Но у нас ведь научное учреждение, а не спиритическое общество. Хотите вызывать духов — ваше дело. Соберите приятную компанию и занимайтесь столоверчением на здоровье. Но мы-то здесь при чем?
Я почувствовал острое желание повернуться и выйти из комнаты. Но это было легче всего. Обида — защита слабых, а я не хотел быть слабым. К тому же я сражался не за себя. За себя я никогда по-настоящему постоять не умел. “Рохля”, — назвала меня однажды Галя. Это было жестоко, но довольно точно. Но сейчас за мной были У и его братья, я держал в руке дрожащую серебряную паутинку. Я отвечал за нее. Я не мог ее выпустить, если бы даже передо мной были десяти тысяч Борисов Константиновичей, и все они могучим хором предлагали бы мне заниматься столоверчением и вызыванием духов.
— Борис Константинович, я не спирит и не прошу вас участвовать в спиритическом сеансе. Я прошу проделать один научный эксперимент.
— Какой эксперимент? — брезгливо сказал заведующий лабораторией и стал раскатывать сигарету между пальцами. — О чем вы говорите? Эксперименты ставят тогда, когда они имеют отношение к науке. Пусть самое отдаленное, но все-таки имеют. А вы, простите меня, приходите не то с телепатией, не то со спиритизмом, не то с теософией. Это же, дорогой мой, чепуха. Абсолютная, раз и навсегда решенная че-пу-ха!
Я сделал такой скорбный вздох, что Борис Константинович чуточку смягчился.
— Поймите, если бы ко мне пришел самый симпатичный мне человек и попросил проверить работу изобретенного им вечного двигателя, я бы не стал этого делать, как не стал бы этого делать ни один ученый, слышавший о законе сохранения энергии. Вы тоже пришли ко мне со своего рода вечным двигателем. Не знаю уж, как в сбили с толку Нину Сергеевну, она вообще человек мягкий, — голос Бориса Константиновича стал сердитым, — но я разрешения на шарлатанские фокусы дать не могу...
Борис Константинович сердился, а я, наоборот, совершенно успокоился. Наверное, и я бы на его месте вел себя так же. Но просто любой нормальный человек должен обладать хоть каплей детского любопытства. Самое страшное существо на свете — это человек, начисто лишенный любопытства. Неужели же ученый может быть настолько лишен этого чувства? А может быть, именно потому он и ученый, что не хочет и слышать о вещах, выходящих за рамки его представлений?
Заведующий лабораторией перестал катать сигарету между пальцами, очень внимательно и придирчиво осмотрел со всех сторон, не прятались ли за ней спириты и телепаты, торжественно вставил себе в рот и вынул замысловатую зажигалку.
Почему-то я обратил внимание на его пальцы. Они были короткие, мощные; аккуратно подстриженные ногти были покрыты бесцветным лаком.
Не согласится, подумал я. Человек, лишенный любопытства, но кроющий ногти бесцветным лаком, — это нелегкая комбинация. Ну и бог с ним. Во мне поднималось прежнее настроение безудержного оптимизма.
— Борис Константинович, — сказал я, — мне известно, что телепатии не существует. Но можете вы задумать какую-нибудь фразу, или фразы, или числа и записать их на листке бумаги, произнеся лишь их про себя?
— Нет, не могу.
— Почему, Борис Константинович?
— Потому что никакого чтения мыслей на расстоянии не существует.
— А если я докажу вам, что существует?
— Вы ничего не можете мне доказать. Вы не можете доказать того, что не существует.
— Борис Константинович, для чего нам спорить? Насколько проще было бы проделать этот крошечный опыт, о котором я только что говорил. Да давайте даже не проделывать его. Только что вы подумали: “Вот еще напасть на мою голову”.
Заведующий лабораторией сделал губы кружочком и выпустил несколько колец дыма редкостной правильности. Кольца казались такими же жесткими, упругими и металлическими, как и весь он. Он поднял глаза и посмотрел на меня.
— Вы не ошиблись, и я прошу извинения за слово “напасть”, которое пришло мне в голову, хотя обычно за то, что думают, не извиняются. Но вы меня ни в чем не убедили. Абсолютно ни в чем. Сам характер нашей беседы, — Борис Константинович выразительно развел руками, словно говоря: я же в этом не виноват, — характер нашей беседы таков, что вам не составляло особого труда догадаться о моих мыслях.
Я улыбнулся. Во мне проснулся охотничий азарт. Неужели я не загоню его в угол?
— Согласен, Борис Константинович, я действительно навязался на вашу ученую голову. И я вас прекрасно понимаю. Но с другой стороны: отвяжитесь же от этой напасти, от этого настырного протеже слишком доброй Нины Сергеевны. Уважьте его прихоть!
Заведующий лабораторией улыбнулся. Для этого ему пришлось затратить немало усилий, потому что его металлическое лицо никак не хотело складываться даже в самую бледную улыбку.
— Теперь-то я понимаю, как вы заморочили голову моей заместительнице. Будь я женщиной, я бы тоже, наверное, не выдержал такой интенсивной осады.
На мгновение я представил себе Бориса Константиновича дамой и содрогнулся от ужаса.
— Но поймите же вы, молодой человек, никакого чтения мыслей, никакой телепатии не существует. Да сто раз угадайте вы задуманное мною — я лишь пожму вашу руку и скажу, что вы прекрасный иллюзионист.
— И у вас не возникнет желания узнать, как я это делаю?
— Может быть, и возникнет. Но я подавлю его. Если бы я занялся изучением искусства фокуса и иллюзий, тогда я бы не отпустил вас. Я бы запер вас. Я любыми способами постарался бы раскрыть, как вы проделываете свой трюк. Я же занимаюсь проблемами сна и сновидений. Я даже не буду спорить, что интереснее. Каждому свое. Одним перепиливание дам на манеже цирка, другим наука. Наверное, перепиливать дам интереснее, вполне допускаю это. Во всяком случае, аплодисментов наверняка больше, Но так или иначе я выбрал науку. Зачем мне тайны иллюзионистов? Посудите сами. Среди моих знакомых иллюзионистов нет. Это было бы некоей интеллектуальной суетой, которая мне в высшей степени неприятна.
Я почувствовал, что суровый Борис Константинович начинает мне нравиться.
— Ваша логика безупречна, и мне нечего возразить вам, но неужели же в вас нет самого что ни на есть детского любопытства? Любопытства малыша, который ждет вылетающей из аппарата птички? Ладно, не хотите иллюзий — не надо. Но птичку? Неужели и птичку вам посмотреть неинтересно?
— Я вырос, — мягко сказал Борис Константинович.
А может быть, он вовсе не вырос? Может быть, он так яростно сражается против детского любопытства именно потому, что не вырос? Нет, подумал я. Это, разумеется, было бы очень психологично и очень литературно. Но Борис Константинович никогда не был мальчиком.
Мы оба замолчали. Заведующий лабораторией посмотрел на часы. Взгляд был корректный. Достаточно быстрый и брошенный украдкой, чтобы не казаться грубым напоминанием. И достаточно в то же время заметный, чтобы я устыдился.
Теперь во мне начала разгораться веселая ярость древних воинов, которой они распаляли себя перед боем.
— А знаете, Борис Константинович, я не уйду отсюда, пока вы не проделаете маленький опыт, который вам так неприятен.
— Оставайтесь! — Борис Константинович развел руками жестом человека, который снимает с себя всякую ответственность. — А я, с вашего разрешения, откланяюсь.
— А я вас не пущу, — улыбнулся я, вставая.
— Прямо не пустите?
— Прямо не пущу.
— А если я все-таки попытаюсь уйти?
— Вот видите, а вы говорили, что лишены детского любопытства. Что будет? Мы начнем возиться, упадем на пол, перепачкаемся, ушибемся. На грохот переворачиваемых стульев прибегут Нина Сергеевна и другие сотрудники. Меня, конечно, отправят в милицию и дадут суток десять, но, знаете, изобретатели вечного двигателя ведь маньяки. Препятствия остервеняют их. Посмотрите на меня — я же типичный маньяк. Я бы с таким не связывался. Ну его к черту. Лишь бы выпроводить как-нибудь.
Борис Константинович вдруг засмеялся. Неловко, неумело, каким-то квакающим смехом.
— Вы все-таки удивительный человек. Если бы вы только были психологом, биологом или даже врачом, я вас тут же пригласил бы в лабораторию. С вашей настойчивостью мы бы выбили себе оборудование, которого нет ни у кого.
— Увы, я учитель английского языка.
— Знаю. Нина Сергеевна говорила мне. Интересно, если это не секрет, как вы заморочили голову Валерию Николаевичу Ногинцеву?
— Во-первых, это не я, а мой приятель. Во-вторых, я был представлен как журналист, пишущий о науке. Как видите, я не останавливаюсь ни перед чем.
— Это-то я вижу, — покачал головой Борис Константинович. — Так что, вы твердо решили меня не выпускать?
— Твердо.
— Ну ладно, уступаю грубой силе.
Заведующий лабораторией уже, кажется, начал постигать искусство улыбки, потому что на этот раз его металлическое лицо сложилось в ее подобие почти без скрипа.
— Спасибо, профессор, — с чувством сказал я. — Но не пытайтесь бежать. Отечественная наука о сне может понести невосполнимый урон.
— Знаете что, —сказал Борис Константинович, — думаю, я смогу вас взять старшим лаборантом. Какая была бы в лаборатории дисциплина!
— Я не всегда такой, к сожалению. Скажу вам больше: я разгильдяй. И даже рохля. Это сегодня я такой.
Если бы Галя видела меня сейчас, подумал я. Наверное, даже она с ее напором не смогла бы уломать его.
— Жаль, жаль. Ну ладно. Но если уж проводить маленький опыт, то давайте по возможности построже. Я останусь здесь, а вы пройдите в комнату налево. Согласны?
— Вполне.
— Держите листок бумаги. Чем писать у вас есть?
— Я учитель, — обиженно сказал я. — Я сплю с четырехцветной шариковой ручкой.
— Прекрасно. Когда я позову вас, возвращайтесь.
— А вы честно не удерете, профессор? — спросил я и улыбнулся самой обезоруживающей улыбкой, какая есть в моем мимическом арсенале.
— Даю слово.
Я прошел в соседнюю комнату, где стояли какие-то незнакомые мне приборы, поздоровался с совсем юной девой, которая тщательно рассматривала свои выгнутые дугами тонкие бровки в зеркальце, и сел за шаткий столик. Дева едва заметно кивнула и даже не отвела взгляда от зеркальца. Чувствовалось, что она гордится бровями — этим творением рук своих — и никогда уже не сможет от них оторваться.
Я качнул столик локтями. Он застонал, но не развалился. Пожалуй, сегодняшний день еще простоит. Я сосредоточился. Подумал вдруг, что через стенку я еще никогда не читал мыслей. Получится ли? Легчайшая щекотка, зуд, секунда гудящей тишины и голос: “Ровные как будто. А Машка говорит, что тонковаты”. Это бормотание дурочки, все еще стоявшей с зеркальцем в руках. Еще сосредоточиться. Шорох слов: “Таким образом... корреляция... локализуется... дважды проверенные нами... электроэнцефалограмма дублировалась... многоканальном... дает основание...” Только бы успеть записать.
Скрипнула дверь. Зеркальце в руках девицы испарилось, и в ничтожную долю секунды она приняла позу прилежно работающего человека.
— Готовы? — спросил профессор.
— Да, иду.
— Ну как, что-нибудь получилось?
— Вот, — сказал я и протянул заведующему лабораторией листок.
— Ну, давайте посмотрим, молодой человек. Но договоримся: если не получилось, на объективные причины не ссылаться. Идет?
— Идет, идет.
Борис Константинович уселся за стол, неторопливо надел очки в тонкой золотой оправе, взял мой листок и положил его рядом с другим листком. Потом ручкой начал подчеркивать слова по очереди на одном листке и на другом. Закончив, он снял очки, подышал на стекла, достал из кармана белоснежный платок, очень медленно и очень тщательно протер их, снова надел и снова начал подчеркивать слова.
— Вы не возражаете, если мы повторим? — вдруг спросил он.
— С удовольствием, профессор.
Я снова прошел в соседнюю комнату. Боже, мы тут спорим о принципиальной возможности чтения мыслей на расстоянии, горячимся, а юная лаборантка с выщипанными бровями уже давно пользуется ею в повседневной жизни. Когда дверь открыл профессор, ее как ветром подхватило. Когда вошел я, она даже не посмотрела в мою сторону. Как она могла знать, кто откроет сейчас дверь?
Теперь она была занята не бровями, а губами, которые подкрашивала с необычайным тщанием и чисто восточной отрешенностью от житейской суеты. Если она еще не замужем, подумал я, из нее выйдет превосходная жена. Во время самой яростной ссоры ей нужно только сунуть в руки зеркальце, и оно сразу погасит ее самый воинственный пыл.
И снова шорох слов. Теперь цифры: “Два и семнадцать сотых... Четыре... шесть и тридцать две тысячных... одиннадцать... одиннадцать и одна десятая”.
На этот раз профессор почти выхватил мой листок. Но читать сразу не стал, а медленно положил на стол. Чем-то он вдруг напомнил мне азартного картежника, томительно медленно сдвигающего карты, чтобы не спугнуть удачу.
Наконец он отодвинул оба листка.
— Я не считал, но по теории вероятности случайное угадывание в этих обоих случаях равно ничтожно малой величине, которой можно пренебречь. Стало быть... — Он побарабанил пальцами по столу и вздохнул: — Стало быть, приходится признать, что вы действительно мастер иллюзии.
— О боже правый! — простонал я. — Какая может быть иллюзия? Я в одной комнате, вы в другой. Откуда я могу знать, какие слова, фразы или цифры вы произносите про себя?
— И все же. Знаете, я вдруг вспомнил опыт, наделавший в свое время много шума. Один врач посадил двух медиумов-телепатов в двух комнатах, расположенных в разных концах здания. Одному из телепатов врач сообщал какое-нибудь слово или фразу. Затем телепат клал руки врачу на плечи и долго смотрел в глаза, запечатлевая в них это слово. Врач шел в другую комнату, где второй телепат тоже клал ему руки на плечи, впивался взглядом в глаза и, наконец, произносил безошибочно слово, задуманное врачом. Доктор был потрясен. И знаете, что выяснилось?
— Нет.
— Когда врач называл слово первому телепату, тот незаметно писал его в кармане на липком листочке, Кладя руки на плечи врачу, он приклеивал сзади к пиджаку этот листочек, а второй телепат снимал его. Врач, в сущности, был курьером.
— Остроумно, но у нас же никто не ходит из комнаты в комнату. И я не пишу в кармане. Вы можете в этом прекрасно убедиться, посадив меня рядом с собой и диктуя мне мысленно.
— Гм... а что... давайте попробуем.
В одной комнате, почти рядом, мысли профессора звучали громко и чисто. Я без труда написал фразу, которую задумал Борис Константинович.
Он подпер голову рукой и прикрыл глаза. На лице его застыла мучительная гримаса. Профессор мужественно сражался за свои убеждения, но вынужден был отступать под напором превосходящих сил противника.
Мне стало жаль его. В сущности, непонятно, почему большинство людей так яростно обороняется против любой новой идеи. Это же праздник, поездка в незнакомую страну.
— Я не могу объяснить того, что вы делаете, — наконец сказал Борис Константинович.
— Но вы верите своим чувствам?
— Значительно меньше, чем данным науки. А телепатии, понимаете, не существует. Не су-щест-вует! Нет ни одного убедительного опыта, есть только слухи, болтовня, непроверенные россказни. Поэтому я выбираю науку. Я не верю своим глазам. Мои глаза могут ошибаться, а вся наука не ошибается. Конан Дойль был вполне рациональным писателем. Но он был искренне убежден, что не раз видел в своем саду танцы фей и эльфов.
— Яне фея и не эльф, — как можно мягче сказал я. — И я вовсе не утверждаю, что я телепат. Больше того, я с вами согласен, что никакой телепатии и прочих чудес не существует.
— Значит, вы признаетесь, что это ловкая иллюзия?
— Если бы, — вздохнул я. — Представляете, как я бы зарабатывал, выступая в цирке и на эстраде...
— Это идея. Вместо того, чтобы мучить меня здесь...
— Профессор, вы, надеюсь, понимаете, что такое чувство долга? Так вот, я мучаю вас исключительно из чувства долга.
— Перед кем же?
— Перед народом Янтарной планеты и перед всеми людьми. Я вижу торжествующую улыбку на ваших губах. Слава богу, думаете вы. Все стало на свое место. Больной человек. Кстати, если бы я даже был болен, листки на вашем столе не стали бы от этого менее реальными... Дорогой Борис Константинович, ответьте мне на один вопрос: если бы объективные показания ваших приборов установили, что мой спящий мозг принимает сигналы, посылаемые какой-то цивилизацией...
— Хватит! — крикнул профессор и вскочил с места. — Хватит! Вы что, издеваетесь надо мной?
— Нисколько, клянусь вам. Вы потеряли столько времени, потеряйте еще десять минут. И все время смотрите на листки бумаги на вашем столе. Борис Константинович, вы не простите себе, если прогоните меня сейчас. И до конца дней в душе вашей будет копошиться червячок сомнения.
Профессор молча закурил. На этот раз он забыл о кольцах и затягивался жадно и торопливо. Он закрыл глаза, покачал головой, снова открыл их и посмотрел на меня. Разочарованно вздохнул. Бедняга надеялся, наверно, что я вдруг растворюсь и исчезну, и он сможет пробормотать с облегчением: что-то я заработался сегодня, всякая чертовщина мерещится.
— Знаете что, — вдруг сказал он, — давайте еще. Одно слово. — Глаза профессора засветились маниакальным блеском.
— С удовольствием. Только вы произнесли про себя не одно, а три слова, даже четыре: “Вышел месяц из тумана...” Это что, стихи?
— Считалка, — простонал специалист по сну и закрыл лицо руками. —Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана... — Профессор застенчиво улыбнулся и посмотрел на меня.
Я молчал. Он тоже.
Через пять минут он согласился на проведение эксперимента, взяв с меня страшную клятву, что ни одна живая душа на свете не должна знать о нашем договоре. Когда мы прощались, на него жалко было смотреть. Весь он как-то смягчился, словно накрахмаленный воротничок после стирки, а глаза были уже не глазами участкового уполномоченного, а человека, убегающего от него.
Глава 8
Я сидел в учительской после конца занятий и беседовал с преподавательницей литературы Ларисой Семеновной о смысле жизни. В дверь вдруг просунул голову Вася Жигалин. В элегантном рыжем кожаном пальто Вася был очень эффектен, и Лариса Семеновна сразу забыла о смысле жизни.
— Кто это? — театральным шепотом спросила она,
— У него семеро детей. Если вы отобьете его у жены, вам придется их всех обслуживать, потому что крошки обожают папочку и не расстанутся с ним. А жена его, кстати, весит около девяноста килограммов, и все хулиганы микрорайона прячутся под детские грибочки, когда она выходит из подъезда. Ну как, знакомить?
— Еще одно разочарование, — тяжко вздохнула Лариса Семеновна. Ей шестьдесят один год, но она обладает живым, молодым умом, обожает шутки и полна какой-то интеллектуальной элегантности.
— Вы по поводу своих детей, товарищ Жигалин? — сурово спросил я.
Вася бочком пролез мимо полуоткрытой двери учительской, низко поклонился нам и сказал:
— Спасибо, батюшка, за науку-то...
— Ты на машине? — спросил я.
— На ей, родимой. — Вася снова поклонился.
— Лариса Семеновна, может быть, разрешите подвезти вас? Василий — мужик тверезый, мигом домчит.
— Спасибо, Юрочка, я пройдусь, две остановки всего.
— Тогда разрешите хоть представить вам моего друга Василия... Вась, как твое отчество?
— Ромуальдович. Старик Ромуальдыч кличут меня.
Лариса Семеновна пожала мужественную руку старика Ромуальдыча, тяжелоатлетическим рывком подняла чудовищный свой портфель и ушла.
— Что случилось, Вась? — спросил я. — Что-нибудь дома? В газете?
— Да нет, просто проезжал мимо, дай, думаю, зайду, посмотрю, как там Юрочка.
— Вась, — сказал я, — у тебя и без того блудливые глаза, а сейчас в них просто смотреть непристойно. Давай выкладывай, зачем пришел.
Мы шли по непривычно тихому школьному коридору, и Вася с лживым интересом рассматривал портреты великих писателей на стенах. Классики неодобрительно косились на него и молчали.
— Понимаешь, в определенных кругах и сферах считается, что единственный человек, который пользуется у тебя непререкаемым авторитетом, — это я. Ничего в этом удивительного, разумеется, нет. Как известно, я умен, рассудителен не по годам, крайне эрудирован и вообще...
— Вась, у меня сегодня было шесть часов, и уши изрядно устали от болтовни.
— Ладно, Юраня. Не буду. Понимаешь, Галя твоя беспокоится за тебя. Ты переутомился, у тебя расстроена нервная система. Она предлагает, чтобы ты отдохнул хотя бы две недельки в “Заветах”, а ты отказываешься. Она поговорила с моей Валькой, а та снарядила меня. Вот и все. Ты, старик, не обижайся. Если тебе этот разговор неприятен, я тут же замолчу. Но ты же знаешь, как я к тебе отношусь...
Вася — стихийный эгоист. И если он может говорить о ком-то, кроме себя, это значит, он любит этого человека. А на моей памяти за последние четыре или пять лет Вася уже второй раз говорит со мной не о себе, а обо мне.
— А в чем моя переутомленность, тебе сказали?
— Странные, навязчивые сновидения, нелепые идеи... Пойми, старик, это не моя точка зрения. У меня, как ты знаешь, своих точек зрения нет. Не держим-с. И тебе не советую. Накладное дело. Защищай их, следи за ними — хуже детей.
— Не трепись. Почему ты всегда стараешься играть роль циника?
— А ты не догадался?
— Нет.
— Чтобы скрыть за напускным цинизмом легко ранимую душу. Ранимую душу кого?
— Не знаю.
— Идеалиста и романтика. Я идеалист и романтик цинического направления. Или циник романтического склада.
— Вася, ты знаешь, как ты умрешь? Ты погибнешь под обвалом собственных слов.
— Это была бы прекрасная смерть, смерть журналиста.
Мы вышли из школы. Шел мелкий, колючий снежок, сухой и похожий на манную крупу. На землю он не ложился и исчезал неведомо куда.
Мы сели в Васину машину. “Жигуль” был совсем новенький и девственно пах свежей краской. Не то что мой дребезжащий ветеран.
— У тебя есть часок или полтора? — спросил Вася.
— Есть.
— Знаешь что, давай поедем куда-нибудь за город и побродим хоть чуть-чуть по лесу? А?
— С удовольствием.
В машине было тепло. Вася молчал, и я думал о Янтарной планете, о Нине Сергеевне, о профессоре, о чтении мыслей. Неужели вся эта чертовщина происходит со мной? Да не может этого быть. Я вдруг увидел себя со стороны. Связной с незнакомой цивилизацией. Учитель английского языка Ю. М. Чернов берется связать человечество с народом Янтарной планеты.
И вся нелепость, смехотворность ситуации стала явной. Это же чушь! Бред! Почему я? Разве это может быть? Разве этому есть место в привычном моем мире? В моем мире есть Сергей Антошин с его мамашей, математик Семен Александрович с журналом, прижатым к груди, задолженность по профвзносам, дни зарплаты. Галина теплая и душистая шея, которую так приятно целовать, первозданная пыль холостяцкой квартиры Илюшки Плошкина... Какая планета, какая цивилизация, какие сны? О чем вы говорите? Не на машине меня за город возить нужно, а лечить от парафренного синдрома с элементами сверхценных идей и онейроидного синдрома.
Я видел себя мысленным взором в центре огромной толпы, и все показывали на меня пальцами, поднимали детей и смеялись: “Он установил связь с чужой цивилизацией! Смотрите на этого учителишку!”
Стоп, сказал я себе. А как же чужие мысли? Или это тоже химера? И железный Борис Константинович, давший трещину?
Я сосредоточился и вместо метания и кружения своих мыслей услышал неторопливый, покойный шорох слов, копошившихся в Васиной голове:
“Хорошо тянет... хотя, похоже, клапанок постукивает... Не забыть во время профилактики. А может быть, не связываться с этим очерком? Мороки много... Хорошо, к Юрке заехал... Жаль, так редко видимся... Друг...”
Спасибо, Вася. Если человек называет человека другом даже в тайнике своих мыслей, значит, он действительно считает его другом. Хорошие у меня друзья. И вообще меня окружают удивительные люди. И даже профессор оказался вовсе не таким жестяным, каким представлялся сначала.
Я глубоко вздохнул. Вася скосил на меня один глаз.
— Чего вздыхаешь?
— Так... Что у тебя нового в газете?
— Главный вдруг почему-то проникся ко мне. Отличает и голубит.
— Поздравляю.
— Ты что, смеешься, старичок? Это же несчастье.
— Почему?
— Ах ты, святая простота, классный руководитель. Я кто? Спецкор. Надо мной кто? Кому не лень! Его привечает главный? Значит, надо сделать так, чтоб не привечал. Зачем лишний конкурент? Осторожненько, конечно, не торопясь. Классик-то умнее тебя был, товарищ презент перфект.
— Какой классик?
— А этот... тот, кто сказал: минуй нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь. Товарищ Грибоедов, если не ошибаюсь.
Нет, Галя все-таки права, подумал я. Я не борец по натуре. Доверчив, неэнергичен, всегда готов идти на компромисс с действительностью и самим собой.
Наверное, Вася преувеличивает. А может быть, и нет. Он весь в каких-то сложнейших интригах, суть которых я никогда не мог понять. Он делает вид, что страдает от них, но на самом деле он купается в них, плавает, как рыба. Я бы не мог. Я ничего не понимаю в людях. Я по-детски доверчив. Я не умею разговаривать с начальством.
Жизнь казалась мне огромной, сложной, полной запутанных лабиринтов, ловушек, капканов.
— Может быть, остановимся здесь?
— Давай.
Лесок начинался метрах в ста от шоссе. Ели казались вырезанными из темно-зеленого, почти черного бархата и приклеенными к серому низкому небу. Мы шли по нагой, не прикрытой еще снегом, смерзшейся земле. Опавшие листья шуршали сухо и печально. И все-таки это правда. Она реальна, эта тончайшая нить, протянувшаяся из невообразимой дали ко мне. Я здесь ни при чем. Я не претендую ни на какие лавры, чины, звания, награды. По каким-то неведомым причинам нить пришла ко мне...
Я вдруг вспомнил рассказ психиатра о человеке, в руках которого сходились нити от всей Вселенной. Бедный. Если я чувствую на плечах груз, нести который мне помогают У и его братья, что же должен был чувствовать этот несчастный человек в клинике? Ведь нити от Вселенной в его руках — для него абсолютная реальность. Они реальны, как реален для меня У, как реален этот чахлый пришоссейный лесок, припудренный холодной позднеосенней пылью.
И снова я почувствовал себя на ничейной земле между явью и фантазией, в зыбком, неясном тумане.
— Вась, — сказал я, — произнеси про себя какую-нибудь фразу. Чтобы я не мог догадаться, какую.
Вася остановился и посмотрел на меня. Рыжее кожаное пальто казалось удивительно красивым и богатым на фоне голых березок и мохнатых елей. Да и сам он был хорош — широкоплечий, уверенный в себе. Сильный.
— Почему все люди так банальны? — спросил я. — “Приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора”. Почти все вспоминают стихи.
Вася бросил на меня быстрый взгляд.
— Давай еще раз.
Вася наморщил лоб. “Что бы придумать... как это он делает? — слышал я. — Ага. Очерк писать не буду. С ним слишком много мороки”.
— И не надо, — сказал я. — Не пиши этот очерк, если с ним столько мороки.
— Юрка, — вдруг крикнул Вася, — значит, это правда?
— Что? — испуганно спросил я.
— То, что ты телепат? Читаешь мысли? Валька мне говорила что-то, но я пропустил мимо ушей — бабья болтовня. Юрочка, дитя, ты хоть понимаешь, что это такое?
— Не очень.
— Идиот! Маленький бедный идиот! Да ты... да ты на секундочку представь, что это такое! Это же колоссально! Можешь еще раз?
Я еще трижды называл Васе произнесенные им про себя фразы, и он пришел в совершеннейший экстаз. Он носился по лесочку, как угорелый, и все причитал, что я идиот и ничего не понимаю. Может быть, я и действительно идиот, раз так много людей с таким пылом убеждают меня в этом?
Вдруг Вася разом успокоился и задумчиво посмотрел на меня.
— Юрка, а многим ты уже показывал эти фокусы? — спросил он.
— Ну, нескольким людям.
— А они не будут трепать языками?
— Не знаю...
— Я подумал, что это не такая простая штука, как может показаться с первого взгляда. Обладая таким даром, ты перестанешь быть тем блаженненьким Юрием Михайловичем, которым был раньше...
— Почему?
— Да потому, что ты всесилен! Ты знаешь, что люди готовы отдать, чтобы узнать мысли ближнего своего? Ты, наконец, становишься просто опасным элементом, которого необходимо все время держать под контролем. Ты можешь быть кем угодно, начиная от вокзального вора...
— Вокзального вора?
— Конечно. Стой у багажных автоматов и слушай, как люди повторяют про себя комбинацию цифр, когда засовывают в камеру чемоданы. А потом выбирай, что понравилось.
— Спасибо, Вася, ты открываешь мне глаза.
— Тобою может заинтересоваться милиция, органы госбезопасности.
— Понимаешь, это не моя собственность, и я не могу ею распоряжаться.
— Что не твоя собственность?
— Эта способность читать чужие мысли.
— А чья же, моя?
— Нет. Это доказательство, посланное мне, чтобы я мог убедить людей в том, в чем убедить невозможно.
Вася остановился, положил мне руку на плечо и пристально посмотрел в глаза.
— Что с тобой. Юрка? Неужели Галка твоя все-таки права? Да ты не волнуйся, ты не представляешь, как они сейчас лечат людей. Валька поможет, все сделаем. Попринимаешь какой-нибудь дряни, отдохнешь...
Я засмеялся. Как, в сущности, люди похожи друг на друга, какая одинаковая реакция!
Вася смотрел на меня с таким страхом, с таким состраданием в глазах, что волна благодарности прямо нахлынула на меня.
— Не смотри на меня так, друг Вася. И не оплакивай. Ты журналист и должен ценить необычные истории. Послушай самую необычную историю из всех, что ты когда-нибудь слышал. Или услышишь. Я уже раз пытался рассказать тебе, но ты был пьян и слишком занят собой.
Я рассказал о сновидениях, о Янтарной планете.
Я не знаю, поверил Вася мне или нет, потому что он стал непривычно тихим и почти печальным.
Когда мы вышли из леса и подошли к машине, он вдруг протянул мне ключи.
— Ты можешь вести машину?
— А почему же нет?
— Садись тогда за руль. Я не могу. Я должен переварить хоть как-то твой рассказ.
Я понимал его. Если, несмотря на отблеск Янтарной планеты, несмотря на заряды бодрости, посылаемые У, и мне минутами сердце сжимает печаль, что же должны чувствовать другие? Печаль, невыразимую печаль, ибо Вселенная прекрасна и бесконечна, а мы малы и смертны, и гул вечности заставляет сжиматься сердце, как сжимается сердце при виде совершенной красоты. Чехов знал это.