 |
Рисунки Г. Калиновского
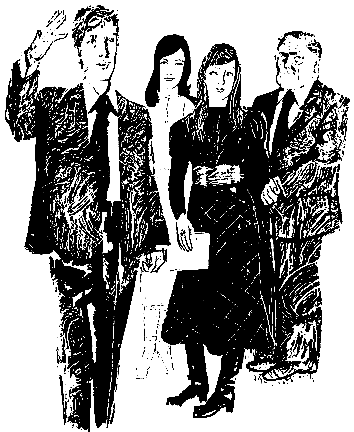 Глава 13
Глава 13
Нина позвонила мне домой и передала просьбу Бориса Константиновича приехать к трем часам в институт. Оказалось, что он идет к директору и хочет, чтобы я был наготове.
— Посидите в приемной с Ниной Сергеевной, может быть, вам придется продемонстрировать еще раз свои способности, — сказал профессор, когда я примчался к нему.
Мы пошли к кабинету директора института. Впереди решительный Борис Константинович, за ним Нина, а потом уже и я.
— Оленька, Валерий Николаевич у себя? — кивнул профессор на дверь, на которой красовалась табличка “В.Н.Ногинцев”. — Он назначил мне аудиенцию ровно на три.
Оленька, существо лет восемнадцати с ниспадающими на плечи русыми тяжелыми волосами, подняла глаза от книжки, которая лежала на пишущей машинке, и кивнула.
— Сейчас, Борис Константинович. — Она нажала на какой-то рычажок и сказала: — Валерий Николаевич, к вам Борис Константинович Данилин.
— Попроси его, пожалуйста, — послышался из динамика низкий мужской голос.
Именно такими голосами должны обладать, по моему глубокому убеждению, обитатели больших кабинетов, перед которыми сидят секретарши с длинными русыми волосами.
Борис Константинович, коротко кивнул нам и исчез за обитой черным дерматином дверью.
— Здравствуйте, Борис Константинович, — послышалось в динамике.
—Добрый день, Валерий Николаевич, —ответил голос профессора.
Русоволосое существо потянулось к рычажку, и я вдруг неожиданно для самого себя сказал:
— Оленька, дитя мое, а зачем лишать нас маленького удовольствия? Дайте нам послушать, о чем будут говорить ученые мужи.
— Нельзя, — сказала Оленька, но динамик не выключила.
— А такой красивой быть можно? — спросил я, и сам покраснел от бесстыжести своей лести.
Оленька прыснула и посмотрела на Нину Сергеевну.
— Да ничего, он свой. — Нина кивнула в мою сторону с видом заговорщика.
— Ладно, только никому ни слова, а то Валерий Николаевич, знаете, что мне сделает...
Я не знал, что он сделает Оленьке, но особенно за нее не волновался. Судя по ее манерам, еще большой вопрос, кто кому больше сделать может — директор Оленьке или Оленька директору.
— Валерий Николаевич, я к вам по не совсем обычному делу, — сказал Борис Константинович, и даже пропущенный через сито динамика голос его звучал напряженно.
— Слушаю вас.
— В нашу лабораторию сна пришел молодой человек, двадцати пяти лет, и попросил, чтобы мы определили, какой характер носят его сновидения.
— И что же снится молодым людям в наши дни? — мягко забулькал директорский бархатный бас. — Неужели не то, что снилось нам?
— Нет, Валерий Николаевич, — твердо, без улыбки в голосе сказал профессор, сразу же уводя разговор в сторону от предложенной директором слегка шуточной тропинки. — Юрию Михайловичу Чернову снится незнакомая планета, которую он называет Янтарной, так как именно этот цвет преобладает там. Юрий Михайлович уверен, что эти сновидения не что иное, как мысленная связь, установленная с ним обитателями этой планеты.
Мне стало зябко, и по спине пробежал озноб. Только сейчас я понял до конца, кем должен выглядеть в глазах нормального человека.
— Гм, гм, — басовито кашлянул директор, и в глухих раскатах его голоса можно было уловить приличествующее случаю сочувствие. — И что же? Нужно ему помочь?
— Да, но речь идет вовсе не о психиатрической клинике. Дело в. том, Валерий Николаевич, что идеи Юрия Михайловича не заболевание и не иллюзия.
— То есть? — Голос директора прозвучал чуть строже, словно влажный и мягкий его бас слегка подсушило нетерпение.
Я почувствовал, что изо всех сил сжимаю подлокотники зеленого кресла. Каково же сейчас Борису Константиновичу? Милый, несимпатичный, упрямый и несгибаемый профессор.
— Мы имеем основания считать, Юрий Михайлович не ошибается, что с ним установили связь представители некой внеземной цивилизации.
— Очень мило, — облегченно засмеялся директор. — Я, признаться, не подозревал, уважаемый Борис Константинович, что вы у нас шутник-с...
— Я понимаю вас, — сухо и твердо произнес профессор. — Я полностью отдаю себе отчет в том, какое у вас должно сейчас сложиться мнение обо мне вообще и о моих умственных способностях в частности. Я сам прошел через это, и ваш скептицизм вполне понятен.
— О чем вы говорите, какой скептицизм? — с легчайшим налетом раздражения спросил директор. — Если вы для чего-то решили подшутить надо мной, то при чем тут скептицизм? Помилуйте, уважаемый коллега...
— Валерий Николаевич, я вас не разыгрываю и не шучу с вами. Как вы, возможно, заметили, я вообще не очень склонен шутить. В нашей лаборатории проведены исследования, которые на сто, повторяю, на сто процентов подтверждают вывод, о котором я уже имел честь вам сообщить.
— Да вы что, смеетесь, дорогой Борис Константинович? — В бас директора вплелись негодующие нотки.
— Я не смеюсь. Вы знаете, что за двадцать три года работы в институте я никогда не позволил себе никаких шуточек и никаких розыгрышей. Я повторяю: я не сошел с ума и не шучу. Я прошу вас только выслушать меня.
— Хорошо, — со вздохом сказал директор, и я представил себе, как он откидывается с жертвенным видом с кресле и полузакрывает глаза.
— Мы провели четыре ночных исследования Юрия Михайловича во время сна. Мы получили электроэнцефалограмму, которую дублировали регистрацией БДГ. Вот график быстрого сна испытуемого в первую ночь, во вторую, в третью и четвертую. Обратите внимание, что все периоды быстрого сна починаются в одно и то же время и продолжаются ровно по пять минут. Вы видели когда-нибудь такую ЭЭГ?
— Довольно странная картина, согласен, но...
— Мы обратили внимание на то, что Юрий Михайлович в отличие от нормы прекрасно помнит все сновидения, во всех деталях и что сновидения последовательно знакомят его с жизнью Янтарной планеты.
— Борис Константинович!
— Прошу прощения, Валерий Николаевич, я еще не кончил...
— Я вовсе не настаиваю, чтобы вы продолжали этот странный разговор...
— Товарищ директор, я заведующий лабораторией. Я пришел к своему директору. Я, наконец, ученый и пришел к коллеге. Выслушайте же меня спокойно...
— Хорошо, Борис Константинович, если вы настаиваете, я, разумеется, выслушаю вас до конца. Но поймите...
— Поймите вы, что я никогда не пришел бы к вам, если не был бы уверен в том, что говорю. Вы думаете, я не представляю, что у вас должно сейчас вертеться в голове? Старый идиот, выжил из ума, этого еще не хватало и так далее...
— Борис Константинович, я, по-моему, не давал вам...
— Я вас ни в чем не обвиняю. Я лишь прошу, чтобы вы спокойно и беспристрастно посмотрели на графики, лежащие перед вами. Как вы видите, интервалы между короткими периодами быстрого сна все возрастают слева направо, от первого периода до десятого, В двух случаях между пятым и шестым циклами появляется еще один дополнительный период. Так вот, пропорция интервалов в точности соответствует пропорциям расстояний от Солнца до девяти планет. Дополнительная же точка между Марсом и Юпитером, которая то появляется, то исчезает, является, по-видимому, космическим кораблем, посланным этой Янтарной планетой. Я обратился к двум математикам с вопросом, какова вероятность случайного совпадения десяти цифр. Такая вероятность исчезающе мала...
Пауза, которая последовала за последними словами Бориса Константиновича, все росла и росла, наконец директор спросил со вздохом:
— Вы хотите уверить меня, что речь идет о телепатической связи между некоей внеземной цивилизацией и вашим испытуемым. Так?
— Так.
— И вы рассчитывали, что убедите меня в реальности такой связи?
— Рассчитывал, — твердо сказал Борис Константинович.
— Но вы же прекрасно знаете, что телепатия — это миф, фикция, выдумки шарлатанов. Для чего возвращаться к этим мифам?
— Это не миф. Перед вами на столе лежит реальность в виде графиков, составленных на основании абсолютно корректных опытов. Опыт повторен четыре раза. Возможность ошибки исключена.
— Вы читали работы, где исследуется вопрос, какова должна быть мощность мозга, чтобы он излучал сигналы, способные достигать мозга реципиента? Нет ни одной известной нам формы энергии, при помощи которой можно было бы передавать телепатическую информацию. На нашем с вами уровне обсуждать вопрос о телепатии — просто несерьезно. Если бы мы с вами были двумя дикарями, тогда, может быть, мы бы могли говорить о подобной чепухе... Не буду скрывать от вас, Борис Константинович, электроэнцефалограмма действительно весьма занятная, спору нет. Но что касается всего остального... Я даже не могу подобрать слов...
— Валерий Николаевич, в вашей приемной сидит наш испытуемый. Я не хотел говорить раньше об этом, но он может продемонстрировать вам те самые телепатические способности, которые, как мы с вами знаем, не существуют.
Оленька с любопытством посмотрела на меня, чуть склонив голову набок, как собачонка, и тяжелые ее русые волосы тоже опрокинулись набок.
— Борис Константинович, вы взрослый человек, и не мне вас воспитывать. Если вы решили пропагандировать телепатию, — это ваше частное дело. Но как сотрудника нашего института, как заведующего лабораторией нашего института я бы попросил вас воздержаться от столь странного хобби. Тем более, что это вовсе не ваша специальность. Вы можете выставлять себя на посмешище, ежели того желаете, но скреплять печатью научного учреждения ваши фантазии — нет, извольте уж, коллега, простить старика. Своим именем и именем института я как-то, знаете, не привык покрывать разного рода... шарлатанство.
— Валерий Николаевич, вы обвиняете меня в шарлатанстве?
— Вы сами себя обвиняете. Спасибо, что избавили меня от столь неприятной миссии.
— Прекрасно, товарищ директор. Допустим, я старый шарлатан. Прекрасно. Благодарю вас. Но вы директор института. Вы ученый. Вы член-корреспондент Академии наук. В пяти метрах от вас человек. Позовите его. Проверьте его. Поймайте нас на шарлатанстве. Неужели вы думаете, я не понимаю вас? Когда Юрий Михайлович впервые пришел ко мне, я тоже ничего не хотел слушать. Я говорил ему о проектах вечного двигателя, которые ни один грамотный человек не будет рассматривать. И все же он убедил меня, потому что знания не должны быть шорами на глазах.
— Не уговаривайте меня, я никогда ни за что не соглашусь участвовать в шарлатанских трюках.
— Но какая же у нас корысть...
— Дело не в корысти. Вы можете быть даже искренне уверены вместе с вашим подопечным в своей честности...
— Благодарю вас, Валерий Николаевич. Это уже большая похвала...
— Оставьте, Борис Константинович. Закончим этот тягостный разговор и давайте забудем, что мы его вели. Мы знакомы лет тридцать, наверное, и я никогда не давал вам повода сомневаться в моем добром к вам отношении. — В директорском басе снова появились очаровывающе бархатные нотки.
Надо было спасать бесстрашного Бориса Константиновича. Я встал, и Оленька испуганно взглянула на меня.
— Куда вы? — пискнула она. — Нельзя!
Но я уже входил в директорский кабинет. Директор оказался точно таким, каким я его себе представлял — крупным, седым красавцем, стареющим львом.
— Простите, я занят, — коротко бросил он, удостоив меня одной десятой взгляда.
— Я знаю, Валерий Николаевич, что вы заняты. Я как раз тот человек, из-за которого весь сыр-бор.
Директор откинулся в кресле и внимательно посмотрел на меня. Он был так велик, благообразно красив и респектабелен, что я почувствовал себя маленькой мышкой, которая пришла на прием к коту. Борис Константинович молча хмурил брови. Вид у него был встрепанный и сердитый. И вдруг мне так остро захотелось взорвать неприступную директорскую броню, что у меня зачесалось в голове. И вместе с зудом пришел шорох слов, сухой шорох струящихся мыслей. И мысли директора были такие же солидные и респектабельные, как он сам. Такие же корректные и чисто вымытые. Немолодые, но хорошо сохранившиеся мысли.
“Нелепая история... наваждение... Позвать Оленьку...”
— Вы уверены, что это нелепая история, — сказал я, — вы уверены, что это наваждение. Вы даже хотите позвать вашу прелестную девочку, чтобы она выставила меня вон...
“Чушь какая-то... Цирковой трюк...”
— Теперь вы утверждаете, что это чушь какая-то, цирковой трюк.
Краем глаза я заметил, что суровое, взволнованное лицо Бориса Константиновича тронула едва заметная улыбка, и он неумело подмигнул мне.
— Че-пу-ха! — вдруг выкрикнул Валерий Николаевич, и голос его неожиданно стал выше и пронзительнее. —Же де сосьете!
— Уверяю вас, это не салонные игры, как вы говорите. Настолько французский я знаю. Я просто слышу, что вы думаете.
“А может быть, проверить? Ловко он это делает”, — пронеслось в голове у директора.
— Конечно, проверьте.
— Что проверить? — вскричал директор. Его невозмутимая респектабельность исчезала прямо на глазах. Он становился старше и суетливее. Он уже больше не был львом.
— Проверьте, как ловко я это делаю.
— Не смейте! — уже совсем тонким голосом взвизгнул директор.
Прошелестела дверь. Я обернулся. В дверях стояли Оленька и Нина Сергеевна. Я подмигнул им. Я уже не нервничал и не боялся. Веселая, озорная волна подхватила меня. Опьяняющая, радостная невесомость, в которую погружал меня У.
— Что не сметь?
— Не смейте читать мои мысли!
— Да позвольте же, Валерий Николаевич, разве читать чужие мысли возможно? Вы уже полчаса утверждаете обратное. Или вы теперь согласны с тем, что я слышу чужие мысли?
— Я ни с чем не согласен, — уже несколько спокойнее отчеканил директор. Должно быть, Оленька вливала в него силы. — Это элементарный трюк. Цирк. Вы видите мое лицо, вы знаете, о чем идет речь, вам вовсе не трудно догадаться, что я думаю. Я этого, тем более, не скрываю.
Последняя мысль, по-видимому, несколько поддержала директора, потому что он начал снова увеличиваться в размерах, опять заполняя собой вращающееся немецкое креслице.
— Вот именно, — сказал я и почувствовал, что держу аудиторию в своих руках, что рядом со мной Нина, что ее большие серые глаза смотрят на меня с восторгом и ужасом, что, наконец, на меня смотрит длинноволосая Оленька, которая, наверное, и не представляла, что с ее всемогущим шефом можно так разговаривать.
— Вот именно, — повторил я. — Что же может быть проще? Я сейчас выйду из комнаты, вы напишете на листке бумаги какие-нибудь две-три фразы, вложите листок в конверт. Я вернусь в комнату и назову эти фразы. Или не назову их. И все станет ясным.
Все замолчали. И вдруг раздался Оленькин голосок;
— Ой, Валерий Николаевич, сделайте, правда, так!..
Спасибо, Оля.
Директор института пожал плечами.
— Только для того, чтобы покончить с этой нелепой сценой.
Я вышел в приемную, уселся в кресло, в котором уже сидел. Зеленая искусственная кожа на правом подлокотнике лопнула, и сквозь трещинку видна была какая-то набивка. На пишущей Оленькиной машинке все так же лежала открытая книга. Я встал и посмотрел на нее. Биология. Не поступила, наверное, готовится снова.
Я сосредоточился. Надо было отсеять ненужные слова, принадлежавшие Борису Константиновичу, Нине и Оленьке, Убей меня бог, если я мог объяснить, как это делаю.
Я услышал сухой шорох директорских мыслей:
“Что бы такое написать? Чтобы покончить с этой комедией... Кто бы мог подумать, что Данилин способен на такое... Не будем отвлекаться... Такое, чтобы он не мог догадаться по ситуации... Такое, что не имеет отношения к этой сцене... Ну-с, например, что-нибудь вроде этого... Наш институт... Нет, это глупо. Нельзя даже упоминать институт в связи с этим шарлатанством... Однако надо что-то написать... Это становится смешно... Они смотрят на меня... Какие-нибудь стихи, может быть? Прекрасно. Что-нибудь школьное, что Оленька знает... “Ты жива еще, моя старушка?” А почему бы и нет? Пишем. “Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой...” Какой там свет? Какой-то там свет. Бог с ним. Достаточно”.
Пора. Я медленно вошел в директорский кабинет. Все головы повернулись ко мне. Первый раз в жизни я почувствовал себя артистом. Я закрыл глаза и приложил руку ко лбу. Нельзя же разочаровывать девушку с такими необыкновенными волосами.
— “Ты жива еще, моя старушка?” — начал декламировать я чужим, деревянным голосом. — “Жив и я, придет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой...” Строка не окончена. Не Есениным, а Валерием Николаевичем. — Я подошел к столу. — Можно конверт?
Директор автоматически взял конверт и протянул его мне. На мгновение мне стало даже жалко его.
— Ольга! — театральным голосом сказал я и протянул конверт Оленьке. — Прошу вскрыть и прочесть вслух.
Словно завороженная, не спуская с меня широко раскрытых глаз, Оленька протянула руки, медленно взяла конверт, открыла его, достала листок, бросила на него быстрый взгляд и громко и явственно сказала:
— Ой!
— Что “ой”, дитя мое? — спросил я, самым тщеславным образом упиваясь и Оленькиным “оем”, и едва сдерживаемым торжеством милого Бориса Константиновича, и слабой улыбкой Нины.
— “Ты... жива... еще... моя... старушка”, — с трудом, запинаясь, начала Оленька.
— Смелее, дитя, это же не экзамен.
— Хватит! — крикнул директор. — Я даже не спрашиваю, как вы это делаете. Телепатии не существует...
— Вообще-то, наверное, да, но в этом случае... — начал было Борис Константинович.
— Никаких “наверное”, никаких этих и тех случаев. Передача мыслей на расстоянии невозможна...
— Но должно же существовать какое-нибудь разумное объяснение тому, что сейчас наблюдало четыре человека? — спросил Борис Константинович. — Или оно не обязательно?
— Для меня не обязательно! — крикнул директор. — Я не цирковой режиссер, с вашего разрешения. Эффектный трюк, не спорю.
— Значит, вы не изменили своей точки зрения? — спросил Борис Константинович.
— Нет, и не изменю, пока я в здравом уме.
— Благодарю вас за любезность, товарищ директор. Хочу вас предупредить, что вынужден буду обратиться выше...
— Можете обращаться к кому угодно, уважаемый Борис Константинович, но меня от ваших бредней извольте уволить-с!
— С удовольствием! Когда ребенок капризничает, его лучше всего оставить в покое.
Директор сделал глубокий вдох и медленно, со свистом выпустил воздух. Руки его изо всех сил сжимали подлокотники креслица, словно он собирался сделать стойку. Борис Константинович пошел к выходу. Мы — за ним.
Армия отступала, сохраняя боевые порядки.
Глава 14
Уверовавший во что-то скептик—человек, которого остановить нельзя. Борис Константинович бросился на штурм вышестоящих научных инстанций с такой яростью, что стены здравого смысла не выдержали и рухнули. Была создана специальная комиссия, в которую вошли ученые разных специальностей. Комиссия должна была изучить феномен под названием “Юрий Михайлович Чернов”.
Жизнь моя окончательно вышла из привычных берегов. Меня подхватили, понесли, закружили какие-то грозно-озорные водовороты. В веселой и странной круговерти мелькали школа, Галя, Нина, Илья. Днем я отвечал на бесконечные вопросы членов комиссии, наговаривал на магнитную пленку содержание своих сновидений, а по ночам спал в лабораториях, опутанный датчиками и проводами.
В комиссию входил астроном Арам Суренович Вартанян, который был уверен, что главную ценность для науки представляют не мои сны, а информация, передаваемая с Янтарной планеты с помощью чередования периодов быстрого сна и интервалов между ними.
Высокий, смуглый и слегка кокетливый, он все время повторял:
— Меня не интересуют ваши сны, Юра. Это все разные там четьи-минеи и прочие толкователи вещих сновидений. Это не наука. Очень мило, очень романтично, очень красиво, но не нужно. Наука начинается с графика. Когда мне показали первые графики вашего сна, я понял: это то. То, чего ждешь всю жизнь, если ты ученый, а не ученый-канцелярист.
Тишайший и нежнейший Сенечка, биофизик лет тридцати, похожий на Иисуса Христа, если не считать земских очков в тонкой металлической оправе, окружал меня по ночам различными экранами, а однажды устроил мою постель в металлической трубе, которую использовали в каком-то институте для насыщения тканей больных кислородом.
Два психолога ежедневно терзали меня своими вопросами и тестами, пока я не догадался стравить их друг с другом, и они начали спор, который продолжался уже вторую неделю.
Примерно через день появлялся председатель комиссии академик Петелин. Академик был маленьким, седеньким человечком, в котором постоянно бурлила чудовищная энергия. По-моему, никакой проблемы получения термоядерной энергии не существует — существует проблема академика Петелина. Достаточно узнать, как в таком малом теле генерируется такое фантастическое количество энергии, как энергетическая проблема человечества была бы решена раз и навсегда.
Как только мы слышали за дверью стук палки Павла Дмитриевича, мы непроизвольно улыбались. Павел Дмитриевич влетал в дверь и начинал кружиться по комнате. Казалось, он с трудом удерживается, чтобы не взлететь к потолку. Кружась, он успевал все осмотреть, все спросить, все выслушать, все понять, все запомнить и все решить.
У меня своя теория, почему Павел Дмитриевич сразу поверил в меня, принял результаты первых опытов Бориса Константиновича и согласился стать председателем специальной комиссии. У меня есть серьезные основания подозревать, что старый волшебник тоже мыслит не совсем обычным образом. Сколько раз он смотрел мне в глаза и говорил, о чем я думаю. Не с такой точностью, конечно, как я, но попадание в цель бывало неизменным. Когда я спрашивал его об этом, он заливался мелким, бесовским смешком и подмигивал мне.
— Люди, — говорил он, — в сущности, довольно однообразные объекты, куда однообразное, чем объекты, скажем, астрономические. А я весьма старый хрыч и неплохо изучил их. Вот вы сейчас, похоже, думаете, что старый хрыч кокетничает...
— Павел Дмитриевич, как вы можете?..
— Ага, попал! Один ноль в пользу академии. — Павел Дмитриевич хитро щурился и спрашивал: — Хотите, я открою вам секрет, как я сделал научную карьеру?
— Хочу, Павел Дмитриевич.
— Прежде всего я по натуре страшный лентяй и бездельник. Да-да, Юрий Михайлович, я не шучу. Но сколько я себя помню — я всегда был человеком энергичным. Энергия, помноженная на лень, дает, как правило, незаурядные результаты. Кроме того, я легко классифицируюсь. Чудак профессор, сумасброд. Это же тип. Клише. Стандарт. А в наш унифицированный век что может быть лучше и приятнее, чем человеческое клише? Не надо думать, кто он и что он, чем дышит и что носит за пазухой. Это как поздравительная телеграмма. Номер три — розочки. Номер семь — голубки на карнизе. Номер десять — чудак профессор. И все рады. Ага, Петелин? Да это же номер десять.
— Павел Дмитриевич, вы меня разыгрываете.
— Конечно, разыгрываю, неужели я буду говорить с вами серьезно? Серьезно я говорю только со своими врагами.
— А у вас есть враги?
— Ученый, у которого нет врагов, не имеет права называться ученым.
— И много их у вас?
— Много, ох, как много! Но знаете, что меня спасает?
— Что?
— Их количество. Враги опасны лишь в небольшом количестве. Когда их становится очень много, они обязательно начинают враждовать друг с другом. А враги твоих врагов — это уже почти друзья. — Академик лихо подмигнул мне и добавил: — А потом вот эта палка! Ну его, думают, мои враги, к черту, еще врежет, старый дурак!
Академик снова раскатывал горох озорного смешка.
И семейная моя жизнь тоже стала какой-то зыбкой и неопределенной. Галя была той же и одновременно другой. То ли это объяснялось недавними нашими размолвками, то ли она никак не могла привыкнуть к мысли, что живет под одной крышей с космическим телепатом — не знаю. Внешне отношения наши были вполне нормальными, но у меня все время было ощущение, что мы идем по тонкому льду. То ли выдержит, то ли треснет. А когда подсознательно ждешь все время зловещий хруст, ты, естественно, напряжен. А напряженное состояние никак не способствует благополучному плаванию семейного корабля.
И с Ниной я продолжал видеться регулярно, так как она и Борис Константинович тоже входили в комиссию академика Петелина. По какому-то молчаливому соглашению мы избегали разговоров на личные темы, но порой мне казалось, что это только этап в наших отношениях, железнодорожный перегон, на котором поезд идет без остановок. Остановки будут, они впереди.
Нина была такой же красивой, как и раньше, а может быть, даже стала еще красивей, и своим обостренным чутьем я начал замечать пылкие взгляды элегантного Арама Суреновича в ее сторону.
В школе, разумеется, ничего не знали о моих делах. Академик Петелин в первый же день, когда собралась комиссия, сказал, что во избежание ненужной шумихи, сенсаций, кривотолков принято решение пока сохранять работу в тайне, и попросил нас соблюдать ее.
Но поскольку мне почти каждый день нужно было куда-то бежать, я то и дело вынужден был переносить свои уроки, отменять классные собрания и избегать наиболее энергичных родителей.
В один из дней наша директриса Вера Викторовна призвала меня к себе в кабинет.
— Садитесь, Юрий Михайлович, — кивнула она мне и принялась перекладывать бумаги на столе с места на место.
Я сел и вопросительно посмотрел на нее.
— Юрий Михайлович, нам предстоит не совсем приятный разговор. Вы догадываетесь о чем?
Я вздохнул шумно и виновато.
— Конечно, Вера Викторовна. И не только догадываюсь, я полностью разделяю мысли и чувства, которые владеют вами.
Суровое лицо директрисы, которого никогда не касалась никакая косметика, начало медленно багроветь, и я подумал, что цвет этот очень идет к ее седеющим волосам, туго стянутым в аскетический наробразовский узел.
— И вы еще позволяете себе... — начала было она, но я ее прервал:
— Я ничего не хочу позволять себе. Я вас прекрасно понимаю и вполне согласен с вами, что Чернов в последнее время очень изменился, причем в худшую сторону.
Вера Викторовна достала из кармана носовой платок и трубно высморкалась. Звук был чистым и сильным. У нее не было никакого насморка, ей просто хотелось выиграть время.
— И что же, вы с этим согласны? — Платок она не убрала, держала в руке наготове, чтобы в случае необходимости снова выиграть время.
— Я уже сказал вам, что полностью разделяю ваши мысли и чувства. У меня сейчас просто в жизни трудный период... — Я на мгновение остановился, чтобы выбрать между несуществующей аспирантурой и несуществующими болезнями, и выбрал аспирантуру. — Я поступаю в аспирантуру...
— В очную?
— Нет, в заочную. Вы представляете, какие это хлопоты, особенно для учителя...
Тонкие губы Веры Викторовны были по-прежнему неодобрительно поджаты.
— Уверяю вас, мне самому неприятно, что я вынужден так манкировать своими обязанностями. В ближайшее время я надеюсь освободиться...
— Хорошо, Я подожду. Но, надеюсь, вы понимаете, что долго так продолжаться не может...
Это случилось на перемене между первым и вторым уроками. Я сидел на своем обычном шатком стуле между шкафом с математическими наглядными пособиями, ключ от которого был потерян еще предыдущим поколением учителей, и весьма развинченным невысоким скелетом, каждый год терявшим по нескольку костей. На шкафу, как раз на уровне моих глаз, был прибит овальный инвентарный номерок. Семнадцать и тридцать один. Я курил, сосредоточенно смотрел на номер и думал, что более нелепых цифр не придумаешь. Ни на что их не разделишь, а перемножить их в уме я безуспешно пытался уже несколько лет.
И вдруг что-то произошло в моей голове. Я услышал звук включенного, но не настроенного на станцию приемника. Звук тишины, которая вот-вот должна прорваться звуком. Но звука не было. Вместо него в этой гулкой тишине моей черепной коробки начала копошиться какая-то мысль. Даже не мысль, а мыслишка. Нечто крошечное, неясное, но беспокойное. Она все ворочалась, крутилась, не находя себе места, постепенно росла и крепла. Но к сознанию еще не всплывала. Быть может, не обладай я опытом Янтарной планеты, я бы не обратил внимания на свое состояние. Мало ли что у кого зреет в голове — от теории относительности до решения написать анонимку. Но я прислушивался к себе, как больной, ловящий малейшие симптомы. И мысль, наконец, оторвалась от дна подсознания и начала медленно подниматься к поверхности, и превратилась уже в нечто, что я знал и ощущал.
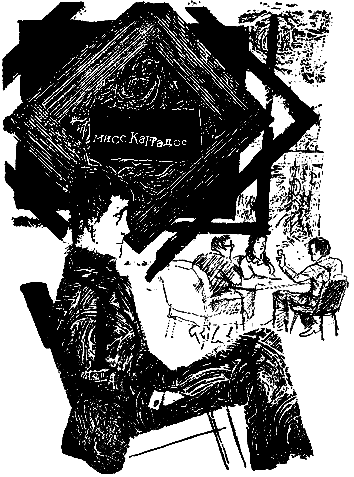 А знал я, что на Земле есть
еще кто-то, кто обладает такими же способностями,
что и я, и кто связан той же нитью с Янтарной
планетой, что и я. Не спрашивайте меня, как я это
знал. Я не могу ответить на этот вопрос. Я знал. Я
был уверен.
А знал я, что на Земле есть
еще кто-то, кто обладает такими же способностями,
что и я, и кто связан той же нитью с Янтарной
планетой, что и я. Не спрашивайте меня, как я это
знал. Я не могу ответить на этот вопрос. Я знал. Я
был уверен.
И знание это было приятно. Только в этот момент я осознал до конца, каким одиноким я был до сих пор. Один. Один среди миллиардов, выбранный У. Да, меня окружали люди, которые не отвернулись, поддержали, поверив в невероятное, но они полагались только на мои слова. А слова не могли передать ни гармонии плавных янтарных холмов, которую слышишь, паря над ними, ни полного растворения в братьях в Кольце Зова, ни гимна Завершения Узора, ни самого цвета Янтарной планеты. Слова были слишком грубым инструментом, не рассчитанным на незнакомый мир. И я был в плену Янтарной планеты, отгороженный от людей стеной пустых слов, которые я пробовал и отбрасывал, убедившись в их слабости, тусклости, сухости.
И вот теперь где-то на Земле объявилась живая душа, и мне не нужно будет слов, чтобы разделить с ней счастье знакомства с народом У. Мне стало так хорошо, так радостно, что я тут же впервые в жизни перемножил в уме семнадцать и тридцать один — волшебные цифры с таинственного инвентарного номерка. Пятьсот двадцать семь — какое прекрасное число!
В кресле сидел математик Семен Александрович. Почему всегда в какие-то очень важные для себя минуты взгляд мой обращается на нашего математика? Милый Семен Александрович, отнимите классный журнал от груди, и тогда с вами тоже случится что-нибудь удивительное. Может быть, вам пронзит сердце стрела Амура, прикинувшегося нашим школьным скелетом, без половины костей? Амур попадет в вас, и вы влюбитесь в нашу директрису Веру Викторовну. А ома в вас. И вместо педагогического сурового пучка на голове сделает себе необыкновенную прическу. А вы придете в пестрой модной рубашке с широким галстуком.
Нет, это, к сожалению, была маловероятная картина. Не из-за Амура, нет. Амур — это просто. Но вот пучок Веры Викторовны — тут и трех Амуров было бы мало.
И все-таки мне нестерпимо хотелось приобщить Семена Александровича к счастью. Я подошел к нему.
— Семен Александрович, — спросил я его, чувствуя себя посланием судьбы, — хотите я открою вам шкаф с вашими усеченными пирамидами?
Математик ушел в глубь кресла и выход из него забаррикадировал классным журналом с чернильной кляксой в правом верхнем углу.
— Э... ключа у нас нет...
— Может быть, закажем новый?
Семен Александрович посмотрел на меня с испугом, будто я предложил ему взорвать школу и ограбить кассу взаимопомощи.
Я подошел к шкафу. Синяя цветная бумага за стеклянными дверцами давно выгорела. Я взялся за ручку и несильно дернул. С печальным скрипом, с которым рушатся легенды, дверца открылась.
— Вот, Семен Александрович, — гордо и великодушно сказал я, — вам подарок. От нас двоих.
Прозвенел звонок, но Семен Александрович не шел на урок. Мелкими шажками он бочком, по-крабьи подходил к шкафу и вдруг коршуном бросился к нему. С блуждающей улыбкой он выхватывал из его пыльных глубин пирамиды и кубы, прямоугольники и параллелепипеды и дрожащей рукой стирал с них густую школьную пыль.
Девятый “А” я не слишком люблю. Брезгливые снобы, делающие мне одолжение уже своим присутствием. Но сегодня и они показались мне милыми.
— Сегодня объявляется однодневный мораторий на двойки в честь выдающегося события, только что происшедшего в нашей школе, — голосом Левитана сказал я.
— Какого? — заверещали девицы девятого “А”, славящиеся своим сорочьим любопытством.
— Был открыт шкаф с математическими пособиями.
Девицы разочарованно хмыкнули. Конечно, они бы предпочли объявление о помолвке Веры Викторовны и Семена Александровича, но, увы, этого я им предложить не мог.
Из школы я пошел домой пешком. Потеплело. Снег весь растаял, шел мельчайший дождь. Даже не дождь, а водяная пыль. И никуда она не шла, а висела а воздухе. Две малышки, пританцовывая, промчались мимо меня. С портфельчиками на спине, с косичками, висящими из-под шапочек. А почему бы и мне не пойти пританцовывающим шагом?
Я зашел в булочную, купил наш дневной хлебный рацион, захватил из овощного магазина пакет картофеля и дома принялся разогревать себе обед.
И вдруг снова гулкая тишина в голове. Ожидание, что я не один. И что тот второй знает, что есть я. Неважно, знает ли он, кто я и где я, но он знает, что я есть. Я в этом уверен так же, как и в том, что тот второй знает о Янтарной планете. Уверен, знаю.
Я посмотрел на часы. Уже четыре. В пять часов на комиссию должен прийти Павел Дмитриевич.
Я не стал мыть посуду и помчался в институт, где нам было выделено две комнатки.
— Павел Дмитриевич, — сказал я, когда он влетел в дверь ровно в пять ноль-ноль, — произошло еще одно событие.
Все повернулись ко мне, а председатель комиссии вкусно облизнулся, словно предвкушая что-то интересное.
— Что же, Юрий Михайлович?
— Сегодня я узнал, что на Земле есть еще один человек, который, как и я, принимает сигналы с Янтарной планеты.
— Где он? — Павел Дмитриевич сделал видимое усилие, чтобы не взлететь со стула вверх.
— Не знаю.
— Откуда же вам известно о его существовании?
— Я получил сигнал. Я просто понял, узнал, что такой человек есть. Если вас интересует, я могу даже точно назвать вам время. Так... Это произошло на перемене между первым и вторым уроком, значит, было это примерно в девять двадцать, девять двадцать пять.
— Какого рода сигнал? — спросил Арам Суренович и почему-то взглянул на Нину, сидевшую у окна,
— Не могу сказать вам точно. Такое ощущение... будто включили приемник, в на станцию не настроили. Тишина, которая таит в себе звук, так, что ли. Гулкая тишина. И какая-то копошащаяся мыслишка. Неясная, и сразу знание. Уверенность.
— Четкая? — застенчиво спросил биофизик Сенечка.
— Что четкая? Уверенность? Абсолютно. Как таблица умножения.
— А что, кто, где? — спросил Павел Дмитриевич.
— Ничего не знаю. Знаю только, что такой человек существует, что он знает обо мне. И все.
— Ах, как было бы хорошо найти его! — вздохнул председатель комиссии. — Представляете, что бы это значило? Если и этот человек получает информацию в форме сновидений и если эта информация совпадает с той, которую получает Юрий Михайлович, это значит, что отпадают последние сомнения в существовании такой информации.
— Мы бы посмотрели тогда, как запищали бы скептики вроде Ногинцева! — мечтательно сказал Борис Константинович.
— Ногинцев пищать не может, — сказал Павел Дмитриевич. — У него бас.
— Пускай пищит басом, — предложил Арам Суренович и победно посмотрел не Нину.
— Мы смогли бы опубликовать свои работы, — стыдливо пробормотал биофизик Сенечка и, чтобы не видеть собственного смущения, снял свои земские очки в металлической оправе.
Почему я мысленно называл его очки земскими, объяснить не могу. Земская управа, земский врач, врач Чехов. Не знаю.
— Пока об этом не может быть и речи, — отрубил Павел Дмитриевич и поставил точку, стукнув палкой об пол. Точка получилась мягкая, наконечник на палке был резиновый. — Не может быть и речи! Это было одним из условий при организации комиссии, и я с ним полностью согласен. Вы представляете, какой шум начался бы? Нашего Юру разорвали бы на кусочки. А он нам пока нужен целиком... Послушайте, а то, что есть человек, знающий о Янтарной планете, и что этот человек знает о вашем существовании, вам стало известно сразу?
— Нет. Сначала я узнал о его существовании, а потом, уже около четырех часов, когда я собирался выйти из дому, я получил второй сигнал.
— Характер тот же, что и утром?
— Вы имеете в виду субъективные ощущения? Да. Такие же, как и утром.
— Будем надеяться, что Юра сможет уточнить информацию. Это было бы просто замечательно...
— Ногинцев... — начал было Борис Константинович, но Петелин оборвал его:
— Что-то я не пойму, друзья мои, чем мы здесь заняты. Выяснением, не осуществился ли первый контакт с внеземной цивилизацией или утиранием носа уважаемому Валерию Николаевичу Ногинцеву?
— Одно не исключает другого, Павел Дмитриевич, — сказал Арам Суренович.
— Вы правы, дорогой мой, — улыбнулся председатель комиссии. — Если в малом великое найти нелегко, в великом малое, как правило, можно обнаружить без особого труда. Так, Борис Константинович? Карфаген должен быть разрушен. Ногинцеву должен быть утерт нос?
— Должен! — с яростной уверенностью мстителя кивнул Борис Константинович.
— Ого, темперамент, однако, у вас! Не хотел бы я быть на месте вашего директора института и иметь такого сотрудника, как вы... Друзья мои, мне кажется, что сегодня Юрия Михайловича нужно отпустить с миром. Может быть, в спокойной обстановке он быстрее получит какую-нибудь дополнительную информацию о своем коллеге... Ах, как было бы хорошо найти его! Вы только подумайте, что бы это дало нам! Прямо дух захватывает, а у меня, у старого хрыча, дух захватить нелегко, поверьте мне... Юрий Михайлович, если что-нибудь прояснится, звоните мне тут же, в любое время суток.
Глава 15
Почти две недели я ничего нового рассказать Павлу Дмитриевичу не мог. В один прекрасный вечер в начале декабря Вася Жигалин зазвал нас поиграть в преферанс. Должен был прийти и Илья Плошкин.
На столе уже лежал расчерченный листок с магическими цифрами в центре: пулька до пятидесяти, по одной копейке. Галю услали смотреть по телевизору встречу по водному поло, а мы уселись за круглый стол.
— Мужики, — вдруг сказала жена Васи, — а ведь Юрочка обдерет нас как липку.
— Это почему ж? — спросил Илья.
— Да потому, что он читает наши мысли и знает наши карты.
— Спасибо, мать, — растроганно сказал Вася, — а у меня и из головы выскочило.
— Точно, — кивнул Илья. — Разденет. Он такой... Олигофрены, они хитрые!
— Как хотите, — сказал я. — Я совсем забыл. Вы же знаете, я начинаю читать мысли, только когда сосредоточусь.
— Ну, конечно. А я вот прошлый раз сосредоточилась, и мне впаяли четыре взятки на мизере.
— Ты, мать, лучше не сосредотачивайся, — ласково сказал Вася, —это к добру не приводит.
Валентина густо кашлянула, повела могучими плечами, и Вася сразу сжался и затих.
— Ладно, — сказал я, — не хотите — не надо. Буду нести свой тяжкий крест. Играйте, выигрывайте, проигрывайте свои имения, погружайтесь в пучину разврата, а мы с Галей поехали домой.
— Нет, вы с Галей не поедете домой. Галя будет смотреть, как топят друг друга “Спартак” и “Динамо”, а ты спокойненько, не спеша приготовишь ужин.
— А полы натереть не нужно? — деловито спросил я. — Или отциклевать? Я из тимуровской команды...
И в этот момент я услышал уже знакомую мне гулкую, набухшую еще не родившимися звуками тишину. Я замер и закрыл глаза.
— Юрка, — услышал я голос Ильи, — тебе плохо? Скрипнул отодвигаемый стул. Я махнул рукой.
— Не обращайте на меня внимания. Все в порядке. Просто устал.
— Честно? — басом спросила Валентина.
— Честно, Валюша, не беспокойся.
Я снова закрыл глаза. Тишина все нарастала и нарастала. Она гудела во мне, заполняла меня всего, но никак не могла вылиться в слово, в образ, в мысль, в знание.
И вдруг в голове у меня зажглась фраза.
Коротенькая английская фраза: “Спасибо, мисс Каррадос”. И гулкая тишина в моей голове исчезла, погасла, словно приемник выключили.
Мисс Каррадос. Что такое мисс Каррадос? Кто такая мисс Каррадос? Связана ли она как-то с моим двойником, к которому, как и ко мне, протянулась с Янтарной планеты тонкая ниточка сновидений?
Тишина и ощущение ожидания были теми же, что и тогда в школе, когда я сидел между шкафом и скелетом. Но на этот раз я прочел фразу. Именно прочел. А может быть, все это мне только почудилось?
Ночью впервые за долгое время я видел вполне земной сон. Мне снился какой-то заграничный город. Я хотел догадаться, что это за город, но почему-то не мог никого спросить.
Я шел по небольшой улочке и слышал английскую речь, но понять, о чем говорят, не мог. И не потому, что не понимал слова и фразы, а потому, что они сливались. И я все старался расслышать, что же все-таки говорят прохожие, и не мог. Я напрягался, вытягивал шею — и не мог разобрать ничего.
Улочка, по которой я шел, была застроена одно- и двухэтажными домиками. На одном из более крупных зданий была вывеска. Я знал, что мне ее обязательно нужно рассмотреть, но почему-то не мог подойти поближе. На вывеске, небольшой медной табличке, как будто было слово “банк”. Да, четыре буквы, “Банк”. Очень похоже на “банк”. А вот какой банк... Я даже мог пересчитать буквы. Их было семь, и первая... Первая была очень похожа на букву “к” в слове “Банк”.
И больше я ничего не мог понять. Я проснулся с ощущением, что не сумел сделать того, что должен был. Я лежал в темноте, и незнакомая улочка, которую я только что видел, снова проплывала у меня перед глазами. Нет, это был не простой сон. Яркость картины, насыщенность деталями были такими же, как и янтарные сны. Но это была Земля. Люди говорили по-английски, я был в этом абсолютно уверен. Эх, если бы я мог прочитать название банка...
Павел Дмитриевич пришел в неописуемое волнение, когда я позвонил ему утром. Голос его дрожал от возбуждения.
— Приезжайте к десяти, — сказал он.
— Павел Дмитриевич, —взмолился я, — меня выгонят из школы. Меня уже вызывала директриса.
— Я возьму вас в свой институт. Старшим лаборантом.
— Спасибо, Павел Дмитриевич. Меня уже звал, и лаборантом, сторожем и завхозом. Но я хочу преподавать английский язык. Или в крайнем случае циклевать полы.
— Вы будете циклевать полы в моем институте. Вам их хватит на всю жизнь. А вообще-то... Знаете что, так, пожалуй, даже будет лучше. Банк. Кто все знает за заграничные банки, как когда-то говорили в Одессе? Финансисты. Это мысль. В четыре часа.
Я пришел без десяти четыре, а без двух минут четыре в комнату ворвался Павел Дмитриевич, погоняя перед собой вальяжного молодого мужчину с элегантным плоским чемоданчиком в руках. На пухлом, гладком лице его застыло изумление.
— Это товарищ Рыженков, — сказал Павел Дмитриевич. — Я выкрал его прямо с работы.
Выкраденный Рыженков виновато улыбнулся. Должно быть, он не привык иметь дело с людьми типа Павла Дмитриевича.
— Товарищ Рыженков постарается помочь нам в определении национальной принадлежности банка, который видел Юрий Михайлович.
Товарищ Рыженков вытащил сигареты и вопросительно посмотрел на Павла Дмитриевича.
— Никаких сигарет, дорогой... как вас прикажете величать? А то “товарищ Рыженков” слишком официально.
— Никита Алексеевич.
— Так вот, дорогой Никита Алексеевич, спрячьте ваши сигареты. Курить будете, когда определите банк. И чем быстрее определите, тем быстрее закурите. Такой стимул вас устроит? Наполеон, как известно, запрещал своим помощникам ходить в уборную, пока они не управятся. Я не Наполеон и заменил туалет табаком.
Специалист по банкам несмело улыбнулся. Он никак не мог понять, куда он попал, и что от него хотят. Он спрятал сигареты в карман и сплел перед собой пальцы рук, изображая готовность и внимание. Руки у него были такими же чистыми и пухлыми, как и лицо. И обручальное граненое кольцо тоже было новеньким и блестящим.
— Ну-с, начнем, друзья мои. Никита Алексеевич, вы эксперт. Берите бразды правления в свои руки. Задавайте вопросы. Юрий Михайлович опишет вам все, что смог увидеть.
Эксперт слегка развел руками. Жест извинения.
— Ну, что ж, начнем, как говорится, с самого начала. Юрий Михайлович, о какой стране идет речь?
— Это-то мы как раз и пытаемся выяснить, — сказал Павел Дмитриевич.
— Простите... гм... — На лице специалиста по банкам появилось удивленное выражение. — Я понял, что... Юрий Михайлович видел какой-то банк...
— Совершенно верно, — сказал Павел Дмитриевич, сердито пристукнул по полу палкой и нетерпеливо задергался на своем стуле — вот-вот взлетит. — Я вам об этом уже говорил.
— Я понимаю, я понимаю, — торопливо кивнул Никита Алексеевич, и было видно, что он привык бывать на совещаниях, где лучше всего было соглашаться во всем.
— Прежде всего речь идет о стране, в которой говорят по-английски, — сказал я.
Никита Алексеевич что-то записал в такой же аккуратной и пухлой книжечке, как весь он.
— Я видел медную табличку. Слово “Банк” я смог рассмотреть, а вот само название...
—Вы входили в банк?
— Юрий Михайлович, гм... не совсем был там, — сказал Павел Дмитриевич. — Я думаю, не в этом дело, и мы не будем этим заниматься.
— Я понимаю, понимаю, — закивал эксперт. Удивительное дело, как только он окончательно потерял всякое представление, что происходит, он успокоился, и на розовом его личике появилось деловое, будничное выражение.
— Само слово “Банк” было написано по-английски? Вы знаете английский?
— Да. Безусловно по-английски. Би-эй-эн-кей.
— Понятно. А сколько слов до или после слова “Банк”?
— Одно слово перед словом “Банк”.
— Одно? Без артикля в самом начале?
— Без. Я насчитал в нем семь букв. Так по крайней мере мне показалось.
— Понимаю, понимаю. Английский язык. Семь букв... — Никита Алексеевич закрыл глаза. Губы его что-то беззвучно шептали.
— Я не уверен на сто процентов, — сказал я, — но мне показалось, что первая буква первого слова похожа на последнюю букву слова “Банк”. То есть английское “кей”. Теперь, когда мы заговорили об этом, мне даже кажется, я понимаю, почему обратил внимание именно на букву “кей”.
— Почему же? — спросил эксперт.
— У нее в обоих случаях была очень высокая вертикальная палочка.
— Понимаю, понимаю, — кивнул эксперт, полез в карман и вытащил сигареты.
— Мы же договорились, молодой человек, — сердито сказал Павел Дмитриевич.
— Да, да, конечно, — поспешно согласился Никита Алексеевич, но сигареты не убрал и даже вытащил из пачки сигарету, выбив ее элегантным щелчком. — Киферс. Банк Киферс. Средний провинциальный банк в Шервуде. Капитал на первое января прошлого года составлял двести двенадцать миллионов. Сорок два отделения. Президент Джеймс Перси Аллейн.
— Шервуд? — переспросил Павел Дмитриевич,
— Шервуд, — кивнул Никита Алексеевич. — Вы разрешите?
— Что?
— Курить?
— Конечно, о чем вы говорите... А вы в этом уверены?
На пухлом лице эксперта промелькнула едва заметная улыбка превосходства.
— Вполне.
— В слове “Киферс” шесть букв, а не семь... Хотя, может быть, после “кей” идут две буквы “дабл и”?
— Совершенно верно.
Павел Дмитриевич взлетел со своего места, пожал руку эксперта и выпроводил его из комнаты.
— А знаете, Юрий Михайлович, я даже рад, что ваша мисс Каррадос живет в Шервуде. У меня там есть коллега, с которым у меня недурные отношения. Я был у него дважды. В прошлом году он приезжал в Москву. Старик чудаковат, но честен и услужлив. Гм... конечно, просьба моя должна будет показаться ему безумной. Узнать, не проводят ли в Шервуде экспериментов с некой мисс Каррадос по установлению контактов с внеземной цивилизацией. Гм... Но, с другой стороны, если действительно такие эксперименты проводят, без него не обойтись. Он такой...
— А если мисс Каррадос действительно существует, но никаких опытов никто с ней не проводит? — спросил я испуганно. Я поймал себя на том, что уже начинаю волноваться за судьбу мисс Каррадос.
— Тогда старик Хамберт ответит мне, что я рехнулся.
— А сколько лет вашему Хамберту?
— Он всем говорит, что семьдесят четыре, но, по-моему, ему сильно за восемьдесят. Сильно. Сумасшедший старик, но дело с ним иметь — одно удовольствие.
Через три недели, когда я начал уже потихоньку забывать о мисс Каррадос и банке Киферс, во время урока дверь класса приоткрылась, и в щель просунулась совсем детская мордочка.
— Простите, — пропищала мордочка, — Вы Юрий Михайлович?
— Я, прелестное дитя. А ты кто?
— Я Штыканов Сережа. Вера Викторовна велела вам срочно прийти к ней в кабинет.
Мордочка исчезла, а я посмотрел на ребят.
— Ребята, чтоб без шума. Идет?
— Идет, Юрий Михайлович, — довольно загалдели ребята, — только вы не торопитесь...
— Здравствуйте, Вера Викторовна, — сказал я, входя к ней в кабинет.
— Добрый день, — сурово сказала она. — Садитесь и пишите.
— Уже?
— Что уже?
— Заявление об уходе?
— Не понимаю ваших шуток, Юрий Михайлович. Садитесь и пишите заявление о том, что просите отпуск на месяц без сохранения заработной платы.
— Я?
— Вы.
— А зачем?
— А вы ничего не знаете?
— Нет.
— Действительно не знаете?
— Нет.
— Мне позвонил академик Петелин и сказал, чтобы вам срочно оформили отпуск на месяц и дали характеристику для выезда за границу.
— Мне?
— Вам. Я решила, что все это глупые шутки. Чтобы академик Петелин звонил к нам в школу... Я извинилась на всякий случай и сказала, что на основании только телефонного звонка не могу и так далее. Этот человек начал кричать и бросил трубку. Через пятнадцать минут позвонили из районо. Сама Клавдия Васильевна. И повторила просьбу насчет вашего отпуска. А потом—из райкома. Насчет характеристики. Чтобы сегодня же привезли им. Я, конечно, сказала, что не возражаю... Но в середине учебного года...
— Клянусь, Вера Викторовна, это не моя инициатива. Я, конечно, догадываюсь, о чем идет речь, но я и думать не мог...
Вера Викторовна посмотрела на меня неодобрительно, но с уважением.
— А что все это значит? — спросила она.
— Да так... Гм... Ну, как вам сказать?.. Понимаете, просто подвернулась туристская поездка...
— И поэтому звонят из райкома, чтобы мы сегодня же привезли им вашу характеристику? Юрий Михайлович, может быть, кое-кто в школе считает меня человеком несовременным... — Вера Викторовна обиженно поджала губы. — Но я не настолько глупа, чтобы ничего не понимать. Что же делать, поезжайте и постарайтесь не уронить честь нашей школы.
Повинуясь какому-то импульсу, я взял руку Веры Викторовны в свою, нагнулся и поцеловал.
Она посмотрела на меня безумным взглядом. Она было открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут же снова закрыла его.
Веселый, сумасшедший вихрь подхватил меня. Я ничего не боялся. Все было возможно.
— Вера Викторовна, — пропел я, — я люблю вас, потому что вы замечательная женщина.
Когда я, пританцовывая, выпархивал из ее кабинета, я заметил, что директриса изо всех сил трет себе ладонью лоб.
Глава 16
Я позвонил Павлу Дмитриевичу, и, когда ОН ответил, трубка ударила меня током — так он был заряжен.
— Немедленно! — кричал он. — Все документы мне!
— Какие документы?
— Приезжайте, заполните все на месте. Мы летим послезавтра. До свидания, мне некогда.
— ...Мы летим послезавтра, мы летим послезавтра, мы летим послезавтра, — повторял я, как пластинка со сбитой бороздкой. — Мы летим послезавтра.
На мгновение мне стало стыдно. Я сяду в самолет, изображая на своем лице равнодушие много повидавшего путешественника, а Галя останется здесь. И Нина останется здесь. И Илья, и Вася, и Валентина. И Вера Викторовна, и Семен Александрович.
Хотя Семен Александрович сейчас все равно не смог бы расстаться с только что открытым своим шкафом...
Я позвонил Нине.
Да, конечно, она знает. Да, конечно, она желает нам успеха.
— Нина, — сказал я, — в шесть часов у выхода, Можно, я вас подожду?
— Нет, Юра, не нужно.
— Почему?
— Не нужно.
— Но почему? Я хочу попрощаться с вами.
— Не нужно, милый Юрочка. Вы очень хороший человек, и вы будете чувствовать себя неловко, потому что уезжаете, а я остаюсь. Потому что вы переполнены предстоящей поездкой, а я в вашем представлении остаюсь в печали и одиночестве. И, наконец, вам будет неудобно, потому что вы чувствуете какие-то несуществующие обязательства по отношению ко мне. — Нина вдруг рассмеялась. — Я права? Вот видите, а то только вы читаете мои мысли.
— Нина, я...
— Не нужно, Юрочка. Вы милый, а поэтому молчите. И всего вам наилучшего. Мы все уверены, что все будет хорошо.
Я помчался в институт к Павлу Дмитриевичу. Самого его не было, но степенная секретарша удивительно домашнего вида достала из стола папочку и протянула ее мне.
— Павел Дмитриевич просил, чтобы вы все заполнили. Садитесь вот здесь.
Только я успел написать свой год рождения, как вихрем влетел Павел Дмитриевич, Седые его волосы стояли дыбом. Мелкие предметы кружились вокруг него. Он втянул меня в свой кабинет.
— Старик Хамберт нашел-таки мне мисс Каррадос. Ему это было нетрудно. Он сам принимает участие в опытах с ней. Финансирует фонд Капра. И у них решено пока не сообщать ни слова. Хамберт нисколько, оказывается, не был удивлен. Лина Каррадос тоже узнала о вашем существовании.
— А почему мы едем туда, а не они к нам?
— Потому что мисс Каррадос наотрез отказалась. У нее тяжело больна мать. Поэтому они пригласили нас. Вот уже билеты. — Павел Дмитриевич вытащил из кармана две длинненькие книжечки с красным флажком Аэрофлота. — Никто не мог бы добиться разрешения на нашу поездку за такой срок. Только старик Петелин, Каково, а? — Павел Дмитриевич нескромно засмеялся. — Всесоюзный рекорд! И знаете, Юра, почему люди идут мне навстречу? Не знаете? Я открою вам свой профессиональный секрет. Я требую настолько невозможные вещи, что люди просто поражаются. Поражаются и в состоянии транса делают. Вы представляете, что значит получить за три дня все разрешения, документы и даже визы в посольстве? А-а, то-то. Чиновник в посольстве настолько был изумлен, что раз пять переспросил меня, когда мы едем. “Да, — говорит он, — наши страны, конечно, сотрудничают, у нас много совместных научных программ, но чтобы оформить визы за трое суток — это неслыханно”. “Ладно, — сказал я ему, — так и быть. Я согласен не на трое суток, а на двое. И учтите, — говорю я ему, — что вы становитесь на пути научных контактов, и мистер Хамберт, и фонд Капра, и вся ваша наука, не говоря уже о нашей, вам не простят, и вы никогда не будете избраны почетным академиком за заслуги в области быстрого оформления виз ученым”. И знаете, Юра, за сколько хитрец оформил визы? За сутки. А сейчас не мешайте, у меня тысяча дел.
— Я вам не мешаю, Павел Дмитриевич, это вы учили меня, как жить вообще и добывать визы в посольстве в частности.
— Юрий Михайлович, — строго сказал Петелин, — в моем возрасте трудно переучиваться, а поэтому приходится всегда считать себя правым. Это удобнее, дорогой мой.
— Вы меня развращаете, Павел Дмитриевич, — совершенно серьезно сказал я, продолжая играть роль бесстрашного и наивного правдолюбца, — вы учите меня цинизму.
— Ах, Юра, Юра... Ваше счастье, что ваши друзья с Янтарной планеты выбрали почему-то именно вас. А то сколько есть молодых и не очень молодых людей, которые не спорят со старыми академиками, а соглашаются сразу, всегда и во всем.
— Я постараюсь, — сказал я и виновато повесил голову.
— То-то же. А сейчас выматывайтесь, мой юный друг, и не мешайте мне. На этот раз я не шучу...
— Жена, — сказал я Гале, как только она вошла в квартиру. — Я должен покинуть тебя. Послезавтра я улетаю.
— Ну-ну, хлеб купил или мне сходить?
— Я серьезно. Послезавтра я улетаю с академиком Петелиным в Шервуд.
Галя замерла на мгновение. Она наполовину сняла пальто, и оно висело у нее на одном плече. Обрадуется или обидится, что без нее?
— Ты шутишь.
— Нет. Честно.
Прыжком в длину с места Галя бросилась мне на шею. Пальто, развеваясь, полетело за ней вдогонку. Поцелуй с разгона был стремителен и точен. Она попала мне прямо в нос.
— Юрка, правда?
— А ты все говорила, что я тюфяк и не умею устраиваться. Кто завел блат на Янтарной планете? Юрий Михайлович Чернов. Всех обошел. Тихий-тихий, а как до дела — пожалуйста, вот он я.
— И ты прямо полетишь в Шервуд?
— А как ты хотела, — важно сказал я, — через Сокольники?
— Ой, Юраня, это же... это же...
— Конечно, это же.
— А что привезешь? Пончо ярко-синее. Замшевый брючный костюм...
— Пончо, а может быть, и ранчо.
— Ты все смеешься.
— Это я от серьезности. Смех — признак подлинной серьезности.
— Не болтай, Юрка... Как я за тебя рада, дурачок ты мой...
“Маленькая, глупая Люша, — подумал я, — как я мог только представить, что смогу жить без тебя”.
— Люш, я понимаю, как тебе захочется завтра же так небрежно бросить между делом в институте:
“Мой Юрка обещал привезти мне из Шервуда пончо. Знаете, девки, на Западе сейчас женщины просто помешаны на пончо. Практически не вылезают из него. Даже ночью”. Так вот, к сожалению, тебе придется пока обождать с балладой о пончо.
— Почему?
— Потому что в Шервуде, как и у нас, решено пока не разглашать опыты. И едем мы с Петелиным по частному приглашению профессора Хамберта. Петелин — в качестве Петелина, я — в качестве его переводчика.
В глубине души я все-таки не верил, что мы летим. Не верил даже тогда, когда мы ехали с Галей в Шереметьево. Не верил, когда увидели на Ленинградском шоссе огромный указатель “Шереметьево-1”, не верил, когда на дороге замелькали рекламные щиты Внешторга, не верил, когда наше такси остановилось около длиннющей машины с дипломатическим номером, из которой вылезла сказочной красоты негритянка в расшитой дубленке.
И только в самом аэропорту я начал подозревать, что, может быть, все это реальность, а не фантазии.
Петелина еще не было, и мы стояли около газетного киоска и молчали, потому что говорить нам обоим не хотелось.
Смуглая женщина вела за собой целый выводок смуглых ребятишек. 0ни шли за ней, как гусята, торопливо переваливаясь на коротких ножках. Последний, самый маленький, тащил на веревочке зеленого крокодила на колесиках. Крокодил, чем-то неуловимо напоминавший крокодила Гену, то и дело переворачивался на спину, и мне стало жалко его.
Молодая красивая женщина держала на руках одетую в шубку девочку, наклоняя ее к дипломатического вида мужчине, по всей видимости, отцу. Девочка, однако, дипломата целовать не хотела, а порывалась броситься за поднявшим вверх колесики крокодилом.
Напротив нас стояла группка наших спортсменов. Все были молоды, загорелы — наверное, прямо со сборов где-нибудь в Сухуми, — все в одинаковых синих пальто, и все смеялись. Наверное, рассказывали анекдоты.
Я вдруг почувствовал себя старым, мудрым и печальным. Впрочем, печаль моя была легка и тут же упорхнула, потому что, напомнил я себе мы летим с Павлом Дмитриевичем в Шервуд и потому что мимо нас шли две стюардессы неземной элегантности и красоты и несли с собой обещание новых стран и новых впечатлений.
— Юрка, — сказала Галя, — если ты будешь так смотреть на всех красивых женщин, ты заставишь плакать маленьких детей.
— Почему?
— Потому что у тебя отваливается челюсть, и ты становишься похож на паралитика.
— Ладно, — сказал я со вздохом. — Не буду. Не хочу быть паралитиком.
— Что не будешь? Смотреть!
— Нет, открывать рот. А вот и Павел Дмитриевич идет.
Петелин стремительно надвигался на нас в сопровождении молодой женщины и мужчины лет сорока шоферского обличья.
— Неужели это жена? — успела шепнуть Галя,
— По-моему, жена и шофер.
Мы начали здороваться, и Павел Дмитриевич сказал:
— Знакомьтесь. Это моя внучка Леночка, а это ее папа и, стало быть, мой сын Владимир Павлович.
В этот момент страстный женский голос, усиленный динамиками, интимно прошептал на весь зал, что начинается регистрация пассажиров, вылетающих в Шервуд. Это было удивительно. И время вылета совпадало с тем, что было указано в наших аэрофлотовских билетах в виде книжечек, и номер рейса. Мираж не исчезал. Динамики прошептали все тот же призыв, теперь уже по-английски, и поблагодарили в конце с таким трепетом в голосе, что челюсть моя .снова отвалилась бы, если бы не жена рядом со мной.
Мы попрощалась легко и весело, как подобает старым путешественникам, слегка усталым глобтротерам, исколесившим, излетавшим и истоптавшим весь земной шар. Рио-де-Жанейро? Что вы, разве это интересно? Вот на прошлой неделе в Дар-эс-Саламе я...
Молоденький пограничник, пахнувший одеколоном, внимательно рассмотрел наши паспорта, потом улыбнулся и открыл турникет. Ветер дальних странствий уже гудел в моей голове, и она, моя бедная голова, кружилась оттого, что я напускал на себя серьезный и небрежный вид. Если бы они только знали, что я лечу за границу первый раз в жизни, и мне хочется визжать от возбуждения и теленком носиться по залу ожидания!..
Мое место в огромном вблизи “ИЛе” оказалось у самого окна, и я снова поблагодарил судьбу, потому что я люблю смотреть из окошка самолета. Мы взлетели, и белые облака внизу казались такими плотными, такими похожими на огромную заснеженную равнину, что я начал искать глазами лыжников. Не может быть, чтобы в такой погожий день по такому свежему снежку, вобравшему в себя розоватость от зимнего солнца, не тянулись цепочки лыжников, Но лыжников не было.
Над вытянутым овальным окошком я заметил какую-то ручку и слегка нажал на нее. Опустилась синяя пластмассовая шторка, и снежная долина под нами окрасилась в густо-голубой цвет.
Погасли транспаранты с вечным наказом не курить и застегнуть привязные ремни. Павел Дмитриевич вытащил из кармана сигареты и предложил мне одну.
— Вы знаете, Юра, — сказал он, — я уже давно никуда не стремился с таким нетерпением, как сейчас в Шервуд. И знаете, почему? Мне не терпится познакомиться с тем, что они узнали о вашем народе У. Что это за цивилизация, на каком уровне развития они находятся? А то ведь ваши рассказы словно подернуты дымкой какой-то... Вы не обижаетесь?
Я сказал, что не обижаюсь, и посмотрел на часы. Одиннадцать часов утра. Вот-вот начнется перемена после третьего урока. Мария Константиновна смотрит в одну из своих крохотных записных книжечек и зоркими глазами профорга высматривает злостных неплательщиков профвзносов, Семен Александрович не спускает взгляда с обретенных сокровищ открытого мной шкафа. А кто же, интересно, сидит на моем месте рядом с нашим милым старым скелетом! И кто пытается перемножить в уме цифры на старом добром инвентарном номерке? И справляется ли Раечка с моими головорезами? И не отвергнет ли прекрасная Алла Владимирова дружбу проснувшегося Сергея Антошина?
Я, должно быть, вздохнул так озабоченно, что Павел Дмитриевич бросил на меня участливый взгляд и спросил:
— Что, Юрий Михайлович, так тяжко вздыхаете! Устали от жизни?
— Нет...
— И зря. Надо устать от жизни смолоду, а потом уже отдыхать. Вот я, например...
Я засмеялся.
— Что вы смеетесь?
— Это вы-то отдыхаете?
— А почему нет? — обиженно спросил Павел Дмитриевич. — Вот сейчас, например...
— Сейчас вы привязаны к креслу... По-моему, это единственный способ удержать вас на месте.
— Смотрите, Юрий Михайлович, я ведь могу и не взять вас старшим лаборантом. Почтительности в вас мало.
— А я из школы уходить не собираюсь.
— Как же вас там терпят? Учителя тем более должны быть почтительны к начальству.
— С трудом, наверное, терпят...
Павел Дмитриевич задумчиво сморщил нос и сказал:
— Юра, а почему все-таки вы мне так нравитесь? Это же противоестественно. Вы недостаточно почтительны, спорите, дерзки, независимы в суждениях, и из-за вас происходит одно из крупнейших событий в жизни человечества. А у меня в институте столько молодых людей, которые так прекрасно почтительны, с таким искренним жаром уверяют меня, что я всегда прав, и суждения и мнения которых всегда странным образом совпадают с моими.
Я захихикал, и Петелин сказал:
— Вот видите, и смех у вас несолидный. И дым вы выпускаете кольцами, а я не могу. Всю жизнь пытался научиться — и не смог. Может быть, я и академиком стал, чтобы хоть как-то компенсировать этот недостаток. А у вас, поглядите, какие кольца. Изумительные, первосортные, в экспортном исполнении.
Мне захотелось утешить старика.
— Павел Дмитриевич, вы не огорчайтесь. У меня тоже есть недостатки. Один мой близкий друг твердо установил, что я олигофрен.
— Олигофрен — это слишком общее понятие. — Павел Дмитриевич с интересом посмотрел на меня. — А точнее диагноз он не поставил?
— Как же, поставил. Он нашел у меня симптомы идиотии, общей дементности, дебильности и имбецильности.
— Очень, очень интересно. А кто ваш друг по профессии?
— Вообще-то он филолог, но работает в области технической информации.
— Передайте ему, что у него прекрасный глаз.
Павел Дмитриевич подмигнул мне и засмеялся. Удивительное дело, подумал я, почему судьба посылает мне таких замечательных людей? Чем я заслужил это?
Ответа на свой вопрос найти я не успел, потому что мысли мои начали разбредаться по сторонам, спотыкаться, останавливаться. С минуту или две я не мог сообразить, бодрствую я или сплю, но когда я увидел Илью, летевшего рядом с самолетом и заговорщически подмигивавшего мне, я решил, что все-таки сплю, и со спокойной совестью опустил голову на грудь.
Разбудил меня Павел Дмитриевич.
— Теперь я поднимаю, почему они выбрали для Контакта именно вас, — сказал он с легчайшим намеком на иронию, — вы спите, как сурок.
— Я едва прикрыл глаза, — обиделся я и принялся тайком растирать замлевшую ногу.
— На три с лишним часа...
— Значит, скоро Шервуд?
— Над Шервудом бушует циклон, и аэропорт наглухо закрыт туманом. Мы садимся в Глендейле. И похоже, что мы просидим там сутки, а то и двое.
Как всегда, Павел Дмитриевич оказался прав. Мы проторчали в Глендейле ровно двое суток, пока циклону не надоело крутиться на одном месте над Шервудом, и он благополучно не отбыл по своим делам.
Мы сидели в маленьком номере в гостинице, и я неторопливо читал увесистую газету “Глендейл геральд”. В газете было сорок восемь страниц, и я рассчитал, что даже самый упорный циклон прекратится к странице тридцатой.
Сейчас я находился на третьей странице и читал о перспективах очередного повышения цен на нефть. Потом перешел к биржевым прогнозам. Перспективы были не очень блестящие, но они меня не расстроили. Не скрою, я даже испытал легкое злорадство, которое, наверное, испытывают все, у кого нет акций, когда читают, что те падают в цене.
Под биржевыми прогнозами почему-то была изображена молодая особа в лифчике. Ни сама особа, которая не блистала красотой, ни ее лифчик меня не заинтересовали, и я уже совсем было собрался перебраться на четвертую страницу, как вдруг почувствовал, что не могу этого сделать. Что-то слегка царапнуло мое внимание. Я скользнул глазами по газетной полосе. Нет, это безусловно была не нефть, не биржа. И тут я почувствовал, что начинаю быстро моргать глазами, как старая собака. Над девицей в лифчике было написано: “Бюстгальтеры “Контакт” льстят вашей фигуре и не стесняют движений! Мисс Лина Каррадос, участвующая в опытах профессора Хамберта по установлению контактов с внеземными цивилизациями, говорит, что бюстгальтеры “Контакт” дают ей ощущение космической невесомости”.
Я протянул газету Павлу Дмитриевичу. Он надел очки и дважды прочел рекламу.
— Да, — сказал он, — ощущение невесомости...
Мы снова летели над белыми облаками, но мне почему-то уже не верилось, что вот-вот на снежной равнине покажутся лыжники.
Внезапно я услышал в себе уже ставшую для меня привычной гулкую тишину. Но на этот раз тишина не росла и не набухала медленно, как почка. Почти сразу она лопнула, схлынула, оставив мне сознание, что этой девушки, мисс Каррадос, больше нет. Мы разъединились. Мой мозг еще не мог переварить это знание, а сердце уже сжималось, и в груди мгновенно образовалась холодная, сосущая пустота.
Чепуха, сказал я сам себе, пытаясь остановить надвигавшуюся панику, типичная истерия. Но слова были жалкими и беспомощными.
Должно быть, Павел Дмитриевич задремал, потому что, когда я коснулся его руки, он вздрогнул.
— Павел Дмитриевич, — прошептал я торопливо, чтобы ком не заткнул мне горло, — я ее больше не чувствую...
— Кого? — круто повернулся он ко мне, но глаза его уже знали.
— Каррадос.
— Точно?
— Да. Как будто она вдруг исчезла... Сразу, насовсем... Наверное, ее нет в живых...
— Космическая невесомость... Когда это случилось?
— Не знаю. Я почувствовал это только сейчас.
Павел Дмитриевич несколько раз качнул головой, откинулся на спинку кресла и пробормотал:
— Да...
Он сразу постарел на моих глазах, и белый задорный хохолок на его голове поник.
— Значит, наша поездка бессмысленна? — спросил я.
Детская привычка задавать взрослым вопросы, на которые заранее знаешь ответы. Детская привычка ждать от взрослых чуда. Чуда быть не могло. Каррадос не было, и поездка наша, едва начавшись, потеряла всякий смысл.
Павел Дмитриевич говорил о том, что я, возможно, ошибаюсь, что все равно остались хоть какие-нибудь материалы, а я думал о девушке в лифчике, который льстит фигуре, не стесняя при этом движений... Это же абсурдно. Смерть абсурдна, она нелепа, противоестественна. Был живой человек, и к нему протянулась ниточка сновидений с далекой планеты, И вот человека нет. И конец ниточки повиснет беспомощно. И исчезнет.
А если бы ей и не снилась Янтарная планета? Разве смерть от этого становится менее абсурдна? Что должны испытывать сейчас ее мать, отец? А может быть, у нее был жених?
Я, наверное, задремал, потому что вдруг испуганно вздрогнул. Я посмотрел на Павла Дмитриевича. Он уставился в какую-то книгу, но я видел, что он не читает. О чем он думает ceйчac? Я вдруг почувствовал, что должен знать, о чем он думает. А может быть, не столько знать, о чем он думает, сколько проверить, могу ли я по-прежнему слышать чужие мысли.
Я сосредоточился, ожидая, призывая к себе шорох чужих слов. Но шороха не было, Не было звука чужих мыслей. Были лишь мои собственные беззвучные мысли, которые испуганно бились в голове летучими мышами.
Нет, не нужны мне были чужие мысли, ни разу не получил я удовольствия, подслушивая бесплотное бормотание в чужих черепных коробках. Да и не вспоминал почти о своих способностях, пока не возникала в них нужда. Но это был инструмент, было оружие в борьбе за признание Янтарной планеты, за реальность Контакта. Да, это было не мое оружие, не я выковывал его. Мне его дали, и я отвечал за него. Конечно, я не мог потерять это оружие сам. Это чушь. И все-таки в чем-то я был виноват.
Попробовать еще раз. Не спеша. Спокойно. Расслабиться. Не думать ни о чем. И как следует вслушаться. Жестяный шорох сухих листьев. Сейчас он зазвучит в моей голове.
Но он не звучал. Я ничего не слышал. Ничего. Я протянул было руку, чтобы коснуться руки Павла Дмитриевича и сказать ему о новой потере, но удержался в последнюю секунду. Мне было жаль его. Удар за ударом. И в обоих случаях я был вестником несчастья. Да и что это меняло? Не повернуть же огромный “ИЛ” с полутора сотнями пассажиров обратно только потому, что учитель английского языка Юрий Михайлович Чернов потерял свою странную способность слышать чужие мысли? Способность, которая и существовать-то по всем правилам науки не могла.
Две стюардессы, две прекрасные шереметьевские богини, разносили на пластмассовых подносиках элегантную международную еду. На их пластмассовых лицах были корректные международные улыбки.
Я засыпал, просыпался, снова засыпал, а в сердце все торчала заноза.
Наконец нас снова попросили не курить и застегнуть привязные ремни, горизонт встал дыбом, и самолет начал снижаться.
Глава 17
Профессор Хамберт оказался точно таким, как я его представлял; высокий, сутулый, по-стариковски изящный. Он еще издали помахал нам рукой. Лицо его было серьезно, и я понял, что, к сожалению, не ошибся.
— Добрый день, Хью, — сказал Павел Дмитриевич.
— Добрый день, Пол, — попробовал улыбнуться профессор Хамберт, но улыбки не получилось. — Как долетели?
— Отлично. Познакомьтесь с Юрием Черновым.
— Очень рад, — пожал мою руку профессор. Кожа его руки была суха, морщиниста и прохладна.
— Очень рад, — сказал я.
Пока, к своему некоторому удивлению, я понимал, что говорит профессор.
“Почему Павел Дмитриевич не спрашивает о Лине Каррадос? — подумал я. — Может быть спросить мне?” Я бросил быстрый взгляд на Петелина, но он незаметно покачал головой.
Мы прошли к нескольким металлическим кругам, похожим на аттракцион “колесо смеха”. Но на колесе были не люди, а чемоданы. Хамберт спрашивал Павла Дмитриевича о ком-то, чьи имена были мне незнакомы, и вдруг я подумал, что, может быть, все-таки ошибся и мисс Каррадос жива. Но я сам не верил себе. Ее не было. В голову мне вдруг забралась совсем суетная мыслишка, что я бы на месте Павла Дмитриевича уже давно спросил старика про мисс Каррадос. а он вот не спрашивает.
Мы выловили с вращающихся колес свои чемоданы, прошли мимо обидно равнодушных таможенников и вышли на улицу. Здесь было теплее, чем в Москве, снега не было. Господи, вот я и в Шервуде, а где же желание прыгать теленком, что переполняло меня в Шереметьеве?
Мы уложили чемоданы в багажник машины, профессор Хамберт сел за руль, повернул ключ зажигания и, прислушиваясь к бульканью двигателя, вдруг сказал:
— Пол, я был бы рад еще оттянуть то, что должен вам сказать, но вряд ли это изменит что-нибудь... — Профессор вздохнул прерывисто, как обиженный ребенок, и посмотрел на нас. Черепашьи морщинистые веки прикрыли его глаза. А вдруг он не сможет их больше поднять, подумал я. Но он медленно, с усилием поднял веки. В глазах тлело недоумение. —Почему, почему это должно было случиться? — сказал он. — Простите, я даже не сказал вам, что, собственно, произошло...
- Мы все знаем, — в свою очередь, вздохнул Павел Дмитриевич. То ли из-за его акцента, то ли потому, что по-английски он говорил медленнее, чем по-русски, слова его прозвучали особенно кротко и участливо. — Когда она умерла?
— Умерла? Кто сказал, что она умерла? Она жива и, к сожалению, чересчур жива... Я думал, что мистер Чернов...
Мистер Чернов. Это я. Надо привыкать. Машина плавно набирала скорость.
— Мистер Чернов еще в самолете почувствовал, что с вашей помощницей что-то случилось, — поспешил на мою защиту Павел Дмитриевич, и я понял, за что его любят сотрудники.
Старик, не оборачиваясь, пожал плечами, и его пальто сморщилось на спине.
— В последние дни, — сказал он, — Линины сны стали терять яркость. А во вчерашнюю и позавчерашнюю ночь снов не было вообще. Сегодня она лишилась своих телепатических способностей и сказала, что потеряла вас... Все кончено.
— Может быть, не надо торопиться, Хью? — сказал Павел Дмитриевич.
— Если бы мне было хотя бы лет на двадцать меньше, я мог бы позволить себе не торопиться. В моем возрасте это непозволительная роскошь. Простите, Пол... Когда я узнал, что вы согласились приехать к нам, я сказал Марте: “Приедет Пол, и все вокруг него завертится, как в вихре. Как тогда в Москве, когда он нас чуть не замучил своим гостеприимством и своей энергией...”
— Я не спросил, как поживает Марта.
— О, она здорова, насколько можно быть здоровым в нашем возрасте. И знаете, Пол, что она сказала? Она сказала, что приготовит в день вашего приезда истинно русский обед для вас. И вот...
Профессор Хамберт замолчал. Стекла были подняты, в салоне было тепло и тихо.
Мы молчали. Я смотрел на спину Хамберта. Возраст профессора выдавала его шея. Ему, наверное, действительно было много лет, потому что шея была похожа на черепашью, только вылезала не из панциря, а из темно-серого тяжелого пальто.
— Вы простите меня, друзья, — вдруг сказал профессор, не отрывая взгляда от дороги, — что я молчу. Но я никак не могу прийти в себя. Я никогда в жизни не испытывал такого разочарования и такого презрения к людям. Вы знаете, почему они прервали Контакт?
Мы молчали.
— Потому что Лина и мои коллеги продали его. Да, продали! — Голос профессора стал высоким, почти крикливым. — Я просил их всех: не сообщайте пока никому о нашей работе, не давайте интервью, не поддавайтесь коммерческим соблазнам. Куда там!.. Попробуйте внушить менялам из храма мысль о благородстве... Как только газеты и телевидение пронюхали о нашей работе, мои сотрудники и Лина словно взбесились. В течение двух дней они раздавали самые нелепые интервью налево и направо. Они кинулись на соблазны известности, как голодные окуни на жирных червячков. И тут же нас осадили специалисты по рекламе. О, вы не знаете этих джентльменов! Только они менее чем за сутки могли придумать название духов “Далекие сны”, губной помады — “Золотая планета”, бюстгальтеров — “Контакт”. Вы не представляете, что тут творилось! Бизнесмены крутились возле нас, как биржевые маклеры в день появления на рынке акций, о которых они и мечтать не могли... Я не знаю другого такого молниеносного оружия, как пошлость.
Мы молчали. Я понимал, что говорит профессор Хамберт, но слова все равно с трудом укладывались в сознании. Чтобы реклама была таким ужасным оружием...
— И вы думаете, что Контакт прерван именно из-за... — Павел Дмитриевич замялся, подыскивая слово.
— Торговли?
— Да.
— У меня в этом нет ни малейшего сомнения. Ведь и Лина и мистер Чернов действовали, очевидно, не только как приемники, но и как передатчики. Представляю себе, что должны были почувствовать жители Золотой планеты, когда у нас тут началась большая распродажа...
— Мы называли планету Янтарной, — пробормотал я, но профессор не обратил на меня внимания.
— ...Они, наверное, оглохли от щелканья наших челюстей, от жадного урчания, от злобного клекота конкурентов, наперебой набивавших себе цену. Людская подлость, помноженная на пошлость, — тут не только Контакт уничтожить можно, всю цивилизацию, того и гляди, взорвут... Впрочем, я, должно быть, немножко смешон в своем праведном гневе. Ведь мы всегда были большими мастерами торговли. Мы торговали всем — от мечты до человека, от искусства до снов...
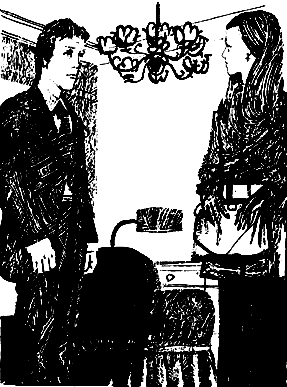 Лина Каррадос с огромными
светлыми глазами, со слабой, неуловимой улыбкой
на губах. Лина Каррадос, продающая Янтарную
планету за гонорар от рекламы бюстгальтеров
“Контакт”.
Лина Каррадос с огромными
светлыми глазами, со слабой, неуловимой улыбкой
на губах. Лина Каррадос, продающая Янтарную
планету за гонорар от рекламы бюстгальтеров
“Контакт”.
Нет, я не мог презирать ее, как профессор Хамберт. Мне было просто бесконечно грустно, словно она предала меня. Как, как она могла променять мелодию янтарных холмов на деньги?
— Но все-таки ведь что-то вы успели сделать? — спросил Павел Дмитриевич.
— Очень и очень мало. Сначала нужно было изыскать деньги, все организовать. И тут же началась коммерция. Да и что я теперь могу продемонстрировать? Базарную торговку, которая клянется, что видела необыкновенные сны? Пока она могла читать мысли, хоть этим можно было козырять...
Я познакомился с ней только на следующий день. Она вошла в комнату, посмотрела на меня, и я сразу узнал ее. Я молчал, потому что никак не мог придумать, что сказать ей. Я понимал всю абсурдность своего поведения, но губы мои были заморожены, и я не мог пошевелить ими.
Она улыбнулась. Наверное, она хотела, чтобы улыбка вышла вызывающей — ну, ну, послушаем, что этот еще будет проповедовать. Но сквозь вызов вдруг явственно пробилась растерянность. Она сразу стала жалкой и беззащитной. Наверное, она всегда была такой. Вероятно, ей всегда не хватало опоры, и она решила, что, продав подороже янтарные сны, крепко встанет на ноги.
А сейчас она сделала неуверенный шаг по направлению ко мне, вопросительно посмотрела. На мгновение мне показалось, что в ее глазах зажегся отблеск Янтарной планеты. Я потянулся к ней. Пусть не будет телепатии, но должны же нас связывать общие сны. Янтарные сны. Но прежде чем я успел шагнуть к ней, отблеск исчез, а улыбка стала жесткой. Она не хотела контакта даже со мной. “Боже, — взмолился я, — сделай так, чтобы она хоть ничего не сказала”. И она ничего не сказала. Только пожала плечами. Повернулась и вышла.
Которую уже ночь я просыпаюсь в невыразимой печали. Я просыпаюсь рано, когда за окном висит плотная ночная темнота. Я лежу с открытыми глазами и слушаю редкие звуки на улице.
Я больше не вижу янтарных снов. Я не вижу больше братьев У, не слышу мелодии поющих холмов, не скольжу в воздухе по крутым невидимым горкам силовых полей, не спешу на Зов, не завершаю с братьями Узора.
И мир сразу потерял для меня золотой отблеск праздничности, кануна торжества, к которому я так привык. Хотя это не так. К празднику привыкнуть нельзя. Праздник, к которому привыкаешь, уже не праздник. А сны оставались для меня праздником.
Может быть, если бы это была только моя потеря, я бы относился к ней чуточку спокойнее. Или хотя бы попытался относиться спокойнее. Но это потеря для всего человечества.
Я здесь ни при чем. Я понимаю, что комбинации слов “я” и “человечество” по меньшей мере смешны. Но я ведь лишь реципиент. Точка на земной поверхности, куда попал лучик янтарных сновидений, Живой, на двух ногах, приемник из четырнадцати миллиардов нейронов.
Я лежу в темноте и тяжело вздыхаю. Это нелепо. Почему второй лучик с далекой планеты протянулся к человеку, который начал им приторговывать? Я ведь знаю стольких людей, которые берегли бы Контакт трепетно и с любовью. Нина, Илья, Павел Дмитриевич...
Никогда Галя не была так весела и ласкова со мной. Я ее понимаю. Куда привычнее быть женой учителя английского языка, который не только не слышит больше чужих мыслей, но часто не слышит того, что ему говорит жена. Жить с ходячим космическим приемником — это очень непривычно для женщины даже последней четверти двадцатого века.
А мы ждем. Я жду, пока к нам снова протянутся ниточки чужих сновидений. Должны же У и его братья понять, что не все на нашей планете готовы торговать далекой янтарной доверчивостью. Они это обязательно поймут.
Я жду.
Ждет Павел Дмитриевич.
Ждет мистер Хамберт.
Не знаю почему, но у меня такое ощущение, что мы обязательно дождемся...
"Юность", № 3- 5, 1976 г.